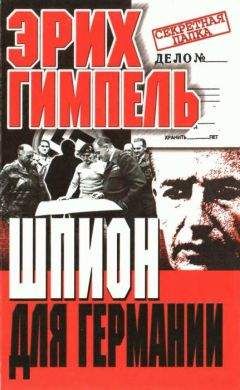Однако через несколько дней он чем-то вызвал подозрение сотрудников и был арестован. Не выдержав допросов, он во всем признался. Схватившись за голову, Зельднер сказал, что и сам не понимает, как был вовлечен в эту авантюру. Вообще-то он был молодым симпатичным парнем, награжденным Железным крестом I степени.
Теперь он был готов предоставить себя в распоряжение абвера. Целый день шло обсуждение, стоит ли принимать его предложение. Мнения разделились. Фриц Зельднер все это время сидел в кандалах в отдельной комнате и ждал решения своей судьбы. Один из старших офицеров абвера — позднее он принимал участие в антигитлеровском заговоре 20 июля 1944 года и был казнен — резко возражал против направления Зельднера в Англию в качестве немецкого агента.
— Это совершенно бессмысленно, — утверждал он. — Возможно, он сейчас действительно исходит из лучших побуждений, но как только увидит ту медицинскую сестру, то снова размякнет, и все начнется сначала. Так что использование его нецелесообразно.
Зельднер был расстрелян.
* * *
На этот раз я сидел в поезде, направлявшемся в Испанию. Задание, хотя и несложное, было уже не учебным.
По документам, изготовленным безупречно в эсэсовской мастерской, находившейся на территории концентрационного лагеря Ораниенбург, я был голландцем.
Рядом со мной на сиденье лежал небольшой коричневого цвета сверток. Он весил около килограмма и имел в длину сорок сантиметров и в высоту — двадцать. В нем находились деньги, самые настоящие, — двести пятьдесят тысяч швейцарских франков. Я вез их в Испанию, чтобы передать там нужным людям. Агентура же нижнего звена оплачивалась, как правило, «гиммлеровскими банкнотами», то есть фальшивыми купюрами.
У шпионов всех мастей и разновидностей спросом тогда пользовались швейцарские франки: их легче было пустить в оборот, нежели доллары. Деньги, представленные именно этой валютой, я должен был доставить в одну из фиктивных мадридских компаний.
При отъезде на берлинском вокзале меня никто не провожал, — и не только потому, что это было не принято при выполнении заданий, подобных моему. Просто не было никого, кто проводил бы меня: за день до моего отъезда между мною и Ингрид произошел разрыв. С нею я познакомился в театре. Она, оказавшись рядом со мной, улыбнулась. Достать билеты в театр было трудно, практически невозможно, если у вас не имелось нужных связей. У меня они были, как, видимо, и у нее. Конечно, я не знал тогда, что ее зовут Ингрид. Однако сразу же понял, что оказался пленен ее своеобразной и как бы само собой разумеющейся улыбкой.
У нее не было ни капризов, ни забот, ни работы. Она не писала писем на фронт и не говорила о войне. На ней всегда были шелковые чулки. Я никогда не видел ее с хозяйственной сумкой или авоськой. Она производила впечатление чего-то роскошного при всеобщей нужде.
Мы были знакомы с ней уже более трех недель, но не знали ничего друг о друге, кроме того, что были связаны узами взаимной любви. У меня даже появилось странное желание бросить свои дела с абвером, стать солдатом и жениться на ней. Все, что меня так или иначе привлекало в карьере шпиона, блекло по сравнению с Ингрид.
— А чем ты занимаешься? — спросила она меня однажды.
— Работаю в оборонной промышленности, — ответил я. — Но даже толком не знаю, устраивает ли меня это или нет.
— Бывает и хуже, — произнесла она, посмотрела мне в глаза и коснулась меня. Руки ее были мягкими и нежными, что редко встречалось во время войны.
С тех пор мы довольно часто возвращались к разговору о моей работе. И получалось это как-то непринужденно. Конечно же я молчал о своих реальных делах: этому я уже был научен. Однако как-то раз я, видимо, сказал что-то лишнее…
Вскоре после этого у меня состоялся разговор с Юргенсеном. У него было плохое настроение: ходили слухи, что его собирались отправить на фронт, — правда, слухи не подтвердились, и в своей должности он оставался до самого конца войны.
— Не слишком-то увлекайтесь женщинами! — сказал он. — Женщины для агента — яд. Это вам уже давно пора знать наизусть.
— Не понимаю, что вы имеете в виду.
— Попробую немного освежить вашу память, — продолжил он. — Где вы были вчера вечером?
— Ужинал у Хорхера.
— А с кем?
Я замешкался.
— Отвечайте, парень! — нетерпеливо воскликнул он. — У меня нет времени на долгие разговоры. С женщиной, не так ли?
— Да, — признался я.
— Прекрасно. И ей вы рассказали, что скоро едете в Испанию. Разве не так?
— Точно!
Меня будто обухом ударили по голове. Откуда он мог знать об этом? Ведь рядом с нами никого не было. Никто не мог подслушать наш разговор.
Другого объяснения не было: стало быть, он узнал это от Ингрид!
Я отправился к ней и открыто высказал свое подозрение. Она лишь рассмеялась, как всегда, и без всякого смущения.
— Ты слишком сентиментален и комичен, — произнесла она. — Разве можно обращать внимание на подобные мелочи?
— Но это не мелочь, — возразил я. — Ведь идет война!
Ингрид встала и закурила. Вставив сигарету в длинный-предлинный мундштук, она стала ходить по комнате взад и вперед.
— Мы все находимся в услужении ей, так или иначе. Каждый на своем месте! Ты — на твоем, а я — на своем. Война, она и есть война. Разве ты этого не понимаешь?
— Понимаю, и еще как, — ответил я. — Если я не ошибаюсь, то твои поцелуи и нежности были своеобразным служением войне?
— Сказано грубовато, — возразила она, все еще улыбаясь, как обычно. Но уже в последний раз — для меня.
То, что я принимал за любовь, было не чем иным, как дополнительной проверкой абвера на мою пригодность в качестве шпиона. Речь шла о том, могу ли я держать язык за зубами.
Я принудил себя не думать больше об Ингрид. Конец! Главное — выполнить поставленную задачу: ведь мы все в той или иной степени работали на войну. И что бы там ни было, вешать нос в любом случае было нельзя!
Я приказал себе сконцентрироваться. Как нас учили в гамбургской агентурной школе, мне предстояло преодолеть четыре вида препятствий: первое — собственная полиция, второе — немецкий пограничный контроль, третье — пограничный контроль на чужой территории и четвертое — секретные службы противника. В Хенде я пересек французскую границу, а в Иро — испанскую.
Пока все шло нормально.
— Есть ли у вас что-нибудь облагаемое пошлиной? — спросил меня испанский пограничник.
— Нет, — ответил я.
Он показал на сверток с двумястами пятьюдесятью тысячами франков.
— А что это, сеньор?
— Проспекты, — непринужденно ответил я. — Для испанских деловых людей. Надо ли показывать их вам?