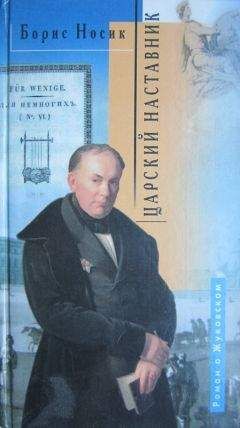Перед выездом с пятой автострады на внешнюю окружную, на «Франсильен», мы попали в пробку. Мой друг-психоаналитик закурил и сказал мне с торжеством:
— Страх перед кастрацией. Типичный случай. Приводи ко мне твоего друга Жукоски. Я положу его на кушетку…
— Он уже ушел, — сказал я. — И ему не нужен был психоаналитик. Он писал письма, писал стихи… У него были друзья, было кому поплакаться в жилетку. Не то что твоим одиноким, скрытным пациентам…
* * *
1806 год принес Жуковскому небывалый урожай стихов, среди которых и прозрачной легкости элегия «Вечер», написанная на холмах родного Мишенского (боюсь, нам и здесь, милый читатель, не отделаться будет от напева Чайковского):
Уж вечер… облаков померкнули края;
Последний луч зари на башнях умирает;
Последняя в реке блестящая струя
С потухшим небом угасает…
…Как слит с прохладою растений фимиам!
Как сладко в тишине у брега струй плесканье!
Как тихо веянье зефира по водам
И гибкой ивы трепетанье!
О, братья! о, друзья! где наш священный круг?
Где песни пламенны и музам и свободе?
Где вакховы пиры при шуме зимних вьюг?
Где клятвы, данные природе…
А мы… ужель дерзнем друг другу чужды быть?
Ужель красавиц взор, иль почестей исканье,
Иль суетная честь приятным в свете слыть
Загладит в сердце вспоминанье
О радостях души, о счастьи юных лет,
И дружбе, и любви, и музам посвященных?
Нет, нет! Пусть всяк идет вослед судьбе своей,
Но в сердце любит незабвенных…
Уже в 1807 году элегия эта была напечатана в карамзинском «Вестнике Европы» с пометою «Белёв. 1806 года». То-то было радости в Белёве.
Перечень стихотворений, написанных в 1806 году (и басни, и мадригалы, и ода…), обширен, зато в 1807 году написалось всего одно четверостишие — на Новый год, и, конечно, Маше, которою будет полон год («М. на новый Год при подарке книги»):
На новый год в воспоминанье
О том, кто всякий час мечтает о тебе!
Кто счастье дней своих, кто радостей исканье
В твоей лишь заключил, бесценный друг, судьбе!
В мае 1807 года влюбленный учитель отправился было в оренбургскую деревню друга своего Блудова, который ехал после смерти матушки устроить дела. Жуковский решил, что пришло и ему время попутешествовать, увидеть родную страну, и напросился в спутники к Блудову. Однако путешествие оказалось недолгим, пришлось вернуться в Москву, о чем Жуковский сообщал в письме другу Александру Тургеневу:
«Я поехал было с Блудовым в Оренбург, хотел видеть некоторую часть православной Руси, но в двадцати верстах от Москвы наша коляска была опрокинута; я ушиб руку…»
Между тем в Москве ждало его дело. После ухода Карамзина «Вестник Европы» пришел в упадок, и позвали Жуковского, чтоб поднять журнал на прежнюю высоту. Для молодого поэта дело это было престижное…
Жуковский простился с милыми деревенскими ученицами и отбыл в Москву. Он с большой серьезностью смотрел на общественную роль журнала, проводника нравственности и гуманности. И если легко заметить, что в журнальной деятельности Жуковского отразились все усвоенные им в пансионе, в дружеском кружке тургеневского дома и в «Дружеском обществе» мысли о нравственной роли поэзии, о нравственности вообще, о счастье, то с не меньшей легкостью можно угадать в его публикациях тогдашнее его восторженное состояние. Вот он сочиняет в 1808 году статью «Кто истинно добрый и счастливый человек?». На сложный вопрос этот отвечает с твердостью влюбленного юноши: «Один тот, кто способен наслаждаться семейственной жизнью».
Маша присутствует и в его статьях, и в прозе, и в балладах, и в песнях — «нежный цветок» Маша (кстати, и стихотворные рекомендации ей даются все те же):
Скромно цвети,
С мирной невинностью,
Цветом души.
В другой песне, напечатанной в девятом номере журнала за 1809 год и помеченной Машиным днем рождения (первым апреля), — там уж просто открытое признание в любви:
Мой друг, хранитель-ангел мой,
О ты, с которой нет сравненья,
Люблю тебя, дышу тобой…
Тут же и причина его любовного томленья обозначена — разлука. Им бы не разлучаться никогда…
Одну тебя лишь прославлять
Могу на лире восхищенной:
С тобой, один, вблизи, вдали,
Тебя любить одна мне радость;
Ты мне все блага на земли:
Ты сердцу жизнь, ты жизни сладость…
Молодая любовь, трогательная, чистая, однако должно нам давать и скидку на поэтическую традицию, на минутное настроение, ибо времени в Москве на самом деле праздного нет: работы много, к тому же снова мучат его мысли о недостаточном образовании, об упущенном времени. Вот что пишет Жуковский другу Александру:
«Всякая минута у меня занята. Но когда подумаю, сколько погибло драгоценного времени по пустякам, сердце обливается кровью».
И еще через месяц, в письме тому же Александру — та же самая жалоба:
«Ах, брат и друг, сколько погибло времени! Вся моя прошедшая жизнь покрыта каким-то туманом недеятельности душевной, который ничего мне не дает различить в ней. Причина этой недеятельности тебе известна. А теперь, друг мой, эта самая деятельность служит мне лекарством от того, что было ей прежде помехою. Если романическая любовь может спасать душу от порчи, за то она уничтожает в ней и деятельность, привлекая ее к одному предмету, который удаляет ее от всех других. Этот один убийственный предмет, как царь, сидел в душе моей по сие время».
Жуковский скорбит о том, что они, все друзья, не вместе в эту трудную минуту (ибо «в глазах и в руке друга — надежда и сила»), что у него сейчас снова голова в разладе с сердцем, что главное — это самообразование и дружба. И хорошо бы еще срочно найти какую-нибудь службу. И еще — пора путешествовать. Ну, а любовь? Что с любовью? По всей вероятности, Жуковский узнал уже о решении его судьбы Машиной матерью, «тетенькой» Екатериной Афанасьевной, и вот он отчаянно ищет утешения, ищет спасения, говорит о любви в прошедшем времени, даже говорит о ее пагубности, о том, что «истинно счастливая жизнь», точнее даже, «самая счастливая», отныне представляется ему как «тихая скромная жизнь, употребляемая на исполнение должностей и на труд полезный».
Любопытно, что он (еще, видимо, и не поговорив с Екатериной Афанасьевной лично) уже готов к полному краху, к поражению, к отступлению, ибо в горестях и жертвенности видит меланхолическую сладость. Сдается, он был к ним в душе готов и ранее. Впрочем, он не знает еще, как трудно будет отступиться, как трудно будет примириться с потерей Маши.