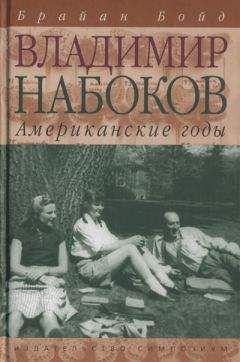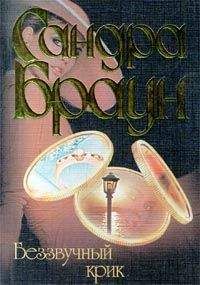Строка 3. «Their scrutiny» («их внимание»): в Арндтовом контексте это относится к Татьяне и Евгению. На миг кажется (у Арндта), что, пока все приглядываются к смятенной Татьяне, сами Татьяна и Евгений уже перешли к внимательному изучению пирога. Тут нет никакой логики, и читателям приходится самим решать, что же все-таки происходит.
Строка 4. «A plump pie that made its bow» («пухлый пирог, который отвесил поклон»). У Пушкина это всего-навсего «был пирог». «Шанкр метафоры», как негодует по поводу иного образа Арндта Набоков17, бесстыдная подстановка, разрушающая пушкинскую экономность средств, его совершенство и точность. Пушкин, даже пародируя банальные элегии Ленского, никогда не воспользовался бы столь отвратительным образом.
Строки 6–8 у Чарльза Джонстона воспроизведены следующим образом: «now they're bringing bottles to which some pitch is clinging» («и вот несут бутылки, к которым пристало немного смолы») — это разве что не вызывает в воображении сцену, в которой слуги швыряют друг в друга в винном погребе куски смолы (pitch-fight). Это ужасное present continuous (настоящее длящееся время), которое возникло ради женской рифмы («they're bringing» / «is clinging»), представляет собой ошибку, общую для всех стихотворных переводов[117]. Рифма, благодаря которой пирог Арндта «now» совершает свой «bow» (позднее у Арндта, столь заботящегося о рифме, появится некий «sentimental» народ, «fed on lentil» (вскормленный чечевицей)), — будучи одним из сильнейших притягательных моментов Пушкина, отличается у него изысканностью, точностью и отсутствием всякой внешней вычурности. Кроме того, Пушкин никогда не использует несовершенных рифм. А насколько точно рифмуется у Арндта «blancmange» ([blэ'monz]) с «range» ([reindz])? He удивительно, что Джон Бэйли сравнивает искусственные усилия стихотворных переводчиков с усилиями собаки, танцующей на задних лапках18.
В строке 6 Арндт банальным образом называет свое шампанское «пьянящим», пренебрегая упоминанием в строке 7 Цимлянского, дешевого русского шипучего вина, которое наряду с блан-манже служит указанием на достаточно скромный достаток Лариных. В следующей строке Арндт грешит против пушкинской чистоты и экономичности в менее заметной, но упорно повторяющейся манере. Он вводит безжизненную метафору, «in its wake» («в кильватере», т. е. «по пятам»), вместо простого пушкинского «за ним», которая заставляет «сомкнутый строй» стаканов раскачиваться вверх-вниз с немалым для них риском. Нужно ли говорить, что Пушкин следит за тем, чтобы не смешивать образов? В строке 9 «бокал», в единственном числе, неким образом появляется «в сомкнутом строю». В строке 10 талия Зизи, уже сравненная с рюмкой, сужающейся «slimly, trimly» («стройно, изящно»), не требует от Арндта в третий раз называть ее «slender» («тонкой»). В отличие от Конрада, Пушкин не обнаруживает пристрастия к маслу масляному: у него рюмки просто «узкие» и «длинные», и после этого он знает уже достаточно, чтобы не повторять нам еще раз, что талия Зизи «тонка».
И вот мы подобрались к фразе «you that used to be Game for my first poetic capers» («ты, что была игрой моих первых поэтических проказ» — «Предмет стихов моих невинных»). «Game for», где «game» становится прилагательным, — устойчивое выражение, которое предполагает «готовность осуществить нечто рискованное», но это не соответствует содержанию. «Game» и «capers» в нашей сцене праздника, должно быть, воплощают собой дичина с приправами[118]. Нет? Но что, в таком случае, означает данная строка? Почему мы должны удовлетвориться тем, что она рифмуется с «tapers», не обращая внимания на смысл, которого она не имеет, пока мы не обратимся к Пушкину или Набокову?
Остается всего две строки. Вместо образа поэта, пьяного любовью к Зизи, мы получаем у Арндта образ лукавой Зизи, которая подливает вина, чтобы напоить Пушкина, — если забыть, что раз Зизи является сосудом, она, в соответствии с образом Арндта, некоторым образом изливает это вино прямо из себя.
Из четырнадцати строк в переводе Арндта лишь одна не искажает Пушкина. А если сравнивать с ним Набокова? «Суждения», из строки 3, должны бы переводиться как «judgments» или «opinions», но не «comments» («замечания»): Набоков хочет прояснить, что суждения здесь — это восклицания гостей. В строке 13 он выбирает странноватое «enluring», потому что Пушкин вместо обычного «заманчивый» (alluring) извлекает на свет архаичный эквивалент с другой приставкой, и Набоков под стать ему оживляет архаичное английское «enlure». Последняя строка в версии Набокова выглядит неуклюже, но хотя в английском языке может быть и «drunk on love», и «drunk with love», и сделаться «drunk by love» к женщине, каждый из этих предлогов имеет оттенки, которые Набоков старается исключить: «drunk on her» (похрапывающий Пушкин лежит ничком на Зизи), «drunk with her» (хмельной блеск в его и ее глазах), «made drunk by her» (снова перед нами самодовольно улыбающаяся Арндтова разливальщица). Предлог «of» исключает и малейшую нежелательную ассоциацию.
Конечно, эта последняя строка, продуманная столь тщательно, будет в качестве самостоятельной строки англоязычного стихотворения казаться просто чудовищной: «you, of whom drunk I used to be». Бесспорно, набоковские строки не только лишены рифмы, часто они плоски и неблагородно нелепы, в отличие от пушкинских, и именно это многие критики посчитали безжалостным искажением Пушкина и достаточной причиной, чтобы предпочесть бубенцовое бренчание Арндта. Но будучи помещенной прямо под строкой Пушкина, последняя строка Набокова, точно передающая пушкинский порядок и скрупулезно верная его смыслу, имеет здесь просто и характерно разъяснительное значение. Набоков делает Пушкину комплимент, считая, что точный смысл его слов имеет значение, — а можем ли мы серьезно относиться к литературе, если не верим в это? — и что его музыка не поддается повторению.
Любители поэзии давно знают, что по-настоящему стихотворение можно понять лишь на том языке, на котором оно написано. Как заметил Сэмюэль Джонсон, «поэзия, в сущности, непереводима; а потому именно поэты сохраняют язык; ибо мы не стали бы заботиться о том, чтобы изучать язык, если бы все, что на нем написано, было бы столь же замечательно в переводе. Но поскольку красоты поэзии не могут быть сохранены ни в каком языке, кроме того, на котором она изначально создана, мы изучаем языки»19. Для Джонсона это означало изучение греческого, латыни, французского, немецкого, испанского и итальянского. Даже он заартачился бы, если б пришлось добавить к этому списку еще и русский язык. Перевод Набокова задумывался для тех, у кого нет времени на овладение языком Пушкина, но кто знает, что великого поэта нельзя получить из вторых рук.