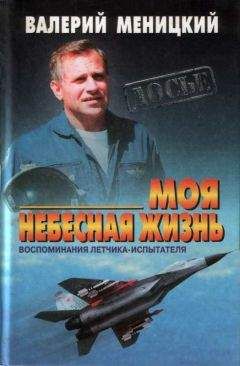«Наша интеллигенция на девять десятых поражена неврастенией, между нами почти нет здоровых людей, — все желчные, угрюмые, беспокойные лица, искаженные какой-то тайной неудовлетворенностью; все недовольны, не то озлоблены, не то огорчены…»
И разве не те же физиономии мы видим с вами сегодня? Про Думу и вспоминать не хочется: просто паноптикум…
Плодотворно сотрудничал Гершензон с издательством братьев Сабашниковых, в нем он вел серии «Русские Пропилеи», издавал и переиздавал свои книги.
Революцию Гершензон принял относительно спокойно, об эмиграции даже не думал, а принял активное участие в налаживании культурной жизни в России, стал одним из организаторов Всероссийского союза писателей. Впрочем, об этом более подробно пишет Владислав Ходасевич:
«Те, кто прожил в Москве самые трудные годы, — восемнадцатый, девятнадцатый и двадцатый, — никогда не забудут, каким хорошим товарищем оказался Гершензон. Именно ему первому пришла идея Союза писателей, который так облегчил тогда нашу жизнь и без которого, думаю, многие писатели просто пропали бы. Он был самым деятельным из организаторов Союза и первым его председателем. Но, поставив Союз на ноги и пожертвовав этому делу огромное количество времени, труда и нервов, — он сложил с себя председательство и остался рядовым членом Союза. И все-таки в самые трудныеминуты Союз шел все к нему же — за советом и помощью.
Не только в общих делах, но и в частных случаях Гершензон умел и любил быть подмогою. Многие обязаны ему многим. Он умел угадывать чужую беду — и не на словах, а на деле спешил помочь. Скажу о себе, что если б не Гершензон — плохо мне бы было в 1916–1918 гг., когда я тяжело хворал. Гершензон добывал для меня работу и деньги; Гершензон, а не кто другой, хлопотал по моим делам, когда я уехал в Крым. А уж о душевной поддержке — и говорить нечего. Но все это делалось с изумительной простотой, без всякой позы и сентиментальности. Его внимательность и чуткость были почти чудесны…
Доброта не делала его ни пресным, ни мягкотелым. Был он кипуч, порывист и любил правду, всю, полностью, какова бы она ни была. Он говорил все, что думал, — прямо в глаза. Никогда не был груб и обиден, — но и не сглаживал углов, не золотил пилюлю.
— Начистоту! — покрикивал он, — начистоту!
Это было одно из его любимых слов. И во всех поступках Гершензона, и в его доме, и в его отношениях к детям, — была эта чистота правды».
Давняя дружба связывала Гершензона со Львом Шестовым. Судьба двух философов сложилась по-разному: Гершензон остался на родине, а Лев Шестов эмигрировал на Запад, но они продолжали переписку (в основном письма хранятся в архиве Шестова в библиотеке Сорбонны), и в письмах обсуждали то, что произошло с Россией и с ними.
«Я страдал лично, страдал за бесчисленные чужие страдания, которые были кругом, — и думал про себя молча… — писал Михаил Гершензон 7 декабря 1922 года. — Весь физический ужас нашей революции я чувствую, наверное, не меньше тебя, уже потому, что я его видел в боóльшем количестве, — я разумею кровь, всяческое насилие и прочее… Самое трудное в России для меня теперь, т. е. в последнее время, кроме личных трудностей и лишений, — две вещи: во-первых, воспоминание о предыдущих 4-х годах, воспоминание о том, как ужасно я и моя семья жили, и воспоминание о многих чужих ужасающих страданиях, которые за эти годы легло на мою душу тяжелой ношей на всю жизнь; во-вторых, что власть, всякая, делает свое дело всегда с кровью, — но раньше (и в Европе) она работала за ширмами, теперь она у нас на виду, — колоссальная разница! Жизнь почти невыносима, когда изо дня в день видишь, как она стряпает свою стряпню. А нынешняя русская власть к тому же — из властей власть: сущность власти как закона беспощадного, отрицающего личность, — и неизменный во все века спутник — вырождение закона и произвол отдельных персонажей власти, — в ней выражены ярче, чем где-либо. И все это у тебя постоянно на глазах; вот что очень страшно».
После высылки или отъезда близких ему друзей Гершензону было очень одиноко. «Ты спрашиваешь о новых друзьях; старых друзей нет — „иных уж нет, а те далече“; из знакомых старые и больше новые, но именно знакомства, которые не греют, так сказать, „души ничуть не шевелят“; а в общем одиноко. Не скажу, чтобы молодое поколение было плохо; напротив, в старом, в наших сверстниках, обнаружилось за эти годы много непривлекательного; молодые чище, менее практичны, менее корыстны. Зато в молодых преобладают формальные интересы, не идейные или нравственные на первом плане — так называемая „научность“, затем эрудиция; если теория литературы, то работает над изучением ассонансов, или рифмы, или ритма прозы у Тургенева и т. п., и дела ему нет до поэзии самой. Это мне скучно; все головастики» (29 марта 1924).
И в одном из писем к Шестову Гершензон почти срывается на крик: «Зачем ты сидишь в Париже? зачем тебя здесь нет?» (15 февраля 1924).
Одиноко в душе, в письмах, но тем не менее Гершензон продолжает делать дело, занимается историей, литературой, философией. Выходят книги: «Тройственный образ совершенства» (1918), «Видение поэта» (1919), «Мечта и мысль И.С. Тургенева» (1919), «Мудрость Пушкина» (1919), «Гольфстрем» (1922), «Ключ веры» (1922), «Статьи о Пушкине» (1926)… и совершенно неожиданная парадоксальная книга «Переписка из двух углов». Ее выпустил Самуил Алянский в 1921 году в издательстве «Алконост».
Летом 1920 года в санаторий для работников науки и литературы (особняк в 3-м Неопалимовском переулке), в райское местечко для тогдашней голодной Москвы, попали вместе Гершензон и Вячеслав Иванов, вместе буквально — в одну комнату. В этой комнате они работали, но постоянно между ними вспыхивали споры о религии и культуре, о смысле искусства и других философских материях. Споры, естественно, отвлекали от основной работы, и тогда по предложению Гершензона два видных деятеля Серебряного века решили письменно излагать друг другу свои мысли. Возникла переписка. Шесть писем из одного угла. И шесть встречных — из другого.
И переписчики были разные по своим мировоззренческим позициям, и углы были разные. В углу вечно мятежного Гершензона царил безупречный порядок: чисто постланная кровать, немногие, тщательно разложенные вещи на столике. У эллина Вячеслава Иванова — все не по-патрициански было всклокочено, груды книг, бумаг и окурков под слоем пепла и пыли: под книгами — шляпа, на книгах — распоротый пакет табака, — свидетель тому был Ходасевич, поселенный в отдельной комнате и часто наблюдавший устные и письменные сражения двух творцов.
«Соседушка, мой свет, напрасно маните Вы меня ласковыми увещаниями покинуть мой угол и перебраться в Ваш», — писал Вячеславу Иванову Гершензон. «Вы сирена, мой друг, Ваше вчерашнее письмо обольстительно…»