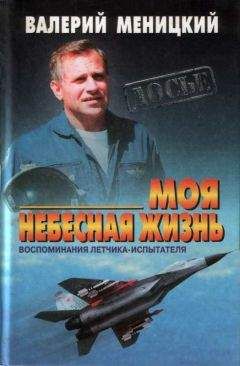— Нет, у Дельвига эти слова означают другое: ведь он был толстый, одутловатый…»
О Пушкине и говорить не надо. Пушкин — это была особая страсть Гершензона. И снова предоставим слово Ходасевичу:
«Он угадал в Пушкине многое, „что и не снилось нашим мудрецам“. Но, конечно, бывали у нас и такие примерно диалоги:
Я: Михаил Осипович, мне кажется, вы ошибаетесь. Это не так.
Гершензон: А я знаю, что это так!
Я: Да ведь сам Пушкин…
Гершензон: Что ж, что сам Пушкин? Может быть, я о нем знаю больше, чем он сам. Я знаю, что он хотел сказать и что хотел скрыть, — и еще то, что выговаривал, сам не понимая, как пифия».
Именно Гершензон предложил особый способ чтения стихов Пушкина. Мы, утверждал Гершензон, должны «прочитать Пушкина собственными глазами и в свете нашего опыта определить смысл и ценность его поэзии». И читать Пушкина надо медленно… Впоследствии гершензоновская концепция бинарности пушкинской поэзии («смысл» и «ценность») получила дальнейшее развитие в 60 — 70-х годах XX столетия.
Обязательно надо отметить, что Гершензон блистательно владел искусством чтения ненаписаннного, так сказать, междокументного текста, впрочем, это относится и к художественной литературе. Опыт Гершензона имел в виду Юрий Тынянов, когда настаивал на необходимости для исторического романиста читать то, чего нет в документах.
История литературы интересовала Гершензона очень выборочно. В центре его историко-литературных интересов был Пушкин, в меньшей степени Тургенев, а Достоевский, напротив, как он сам говорил, «был ему чужд». Из современных ему авторов особенно восхищался Андреем Белым. Вячеслав Иванов, Сологуб и Блок были его любимыми поэтами. Высоко ставил он Ремизова. Не любя стихов Брюсова, уважал его как историка литературы. «В общем же, — как замечает Ходасевич, — был широк и старался найти хорошее даже в писателях, внутренне ему чуждых».
А коли опять вернулись к Ходасевичу, то вспомним его визит летом 1915 года к Гершензону:
«Арбат, Никольский переулок, 13. Деревянный забор, проросший травою двор. Во дворе направо — сторожка, налево еще какое-то старое здание. Каменная дорожка ведет в глубь двора, к двухэтажному дому новой постройки. За домом сад с небольшим огородом. Второй этаж занимает Гершензон, точнее — семья его. Небольшая столовая служит и для „приемов“. А сам он живет еще выше, в мезонине…
Маленький, часто откидывающий голову назад, густобровый, с черной бородкой, поседевшей сильно в последние годы; с такими же усами, нависшими на пухлый рот; с глазами слегка навыкате; с мясистым, чуть горбоватым носом, прищемленным пенсне; с волосатыми руками, с выпуклыми коленями, — наружностью был он типичный еврей. Говорил быстро, почти всегда возбужденно. Речь, очень ясная по существу, казалась косноязычной, не будучи такою в действительности. Это происходило от глухого голоса, от плохой дикции и от очень странного акцента, в котором резко-еврейская интонация кишиневского уроженца сочеталась с неизвестно откуда взявшимся оканием заправского волгаря.
Комната, где он жил, большая, квадратная, в три окна, содержала не много мебели. Две невысокие книжные полки; два стола: один — вроде обеденного, другой — письменный; низкая, плоская кровать с серым байковым одеялом и единственною подушкой; вот и все, кажется, если не считать двух венских стульев да кожаного, с высокой спинкой, старинного кресла. В это кресло (левая ручка всегда отскакивает, расклеилась) Гершензон усаживает гостя. Оно — историческое, из кабинета Чаадаева.
Стены белые, гладкие, почти пустые. Только тропининский Пушкин (фототипия) да гипсовая маска, тоже Пушкина… В кабинете светло, просторно и очень чисто. Немного похоже на санаторий. Нет никакой нарочитости, но все как-то само собой сведено к простейшим предметам и линиям. Даже книги — только самые необходимые для текущей работы; прочие — в другой комнате. Здесь живет человек, не любящий лишнего».
В 1909 году Гершензон выступил инициатором и главным организатором сборника «Вехи» (1909), который Ленин назвал «энциклопедией либерального ренегатства». Так что же такого ренегатского написал лично Михаил Гершензон? Свою статью он озаглавил «Творческое самосознание», и в ней, в частности, писал:
«Нет, я не скажу русскому интеллигенту: „верь“, как говорят проповедники нового христианства, и не скажу также: „люби“, как говорит Толстой. Что пользы в том, что под влиянием проповедей люди в лучшем случае сознают необходимость любви и веры? Чтобы возлюбить или поверить, те, кто не любит и не верит, должны внутренне обновиться, — а в этом деле сознание почти бессильно. Для этого должна переродиться самая ткань духовного существа человека…
Одно, что мы можем и должны сказать русскому интеллигенту, это — постарайся стать человеком. Став человеком, он без нас поймет, что ему нужно: любить или верить, и как именно».
Так писал Гершензон и утверждал:
«Потому что мы не люди, а калеки, все, сколько нас есть, у русских интеллигентов, и уродство наше — уже не уродство роста, как это часто бывает, а уродство случайное и насильственное. Мы калеки потому, что наша личность раздвоена, что мы утратили способность естественного развития, где сознание растет заодно с волею, что наше сознание, как паровоз, оторвавшийся от поезда, умчалось далеко и мчится впустую, оставив втуне нашу чувственно-волевую жизнь. Русский интеллигент — это прежде всего человек, с юных лет живущий вне себя, в буквальном смысле слова, т. е. признающий единственно-достойным объектом своего интереса и участия нечто лежащее вне его личности — народ, общество, государство. Нигде в мире общественное мнение не властвует так деспотически, как у нас, а наше общественное мнение уже три четверти века неподвижно зиждется на признании этого верховного принципа: думать о своей личности — эгоизм, непристойность; настоящий человек лишь тот, кто думает об общественном, интересуется вопросами общественности, работает на пользу общую…»
Думаете, Гершензон устарел? А как же звучавшая совсем недавно песня: «Раньше думай о Родине, а потом о себе!..» Увы, Гершензон лишь выразил сущность нашей русской ментальности. «…Дома — грязь, нищета, беспорядок, но хозяину не до этого. Он на людях, он спасает народ, — да оно и легче и занятнее, нежели черная работа дома…»
«Наша интеллигенция на девять десятых поражена неврастенией, между нами почти нет здоровых людей, — все желчные, угрюмые, беспокойные лица, искаженные какой-то тайной неудовлетворенностью; все недовольны, не то озлоблены, не то огорчены…»
И разве не те же физиономии мы видим с вами сегодня? Про Думу и вспоминать не хочется: просто паноптикум…