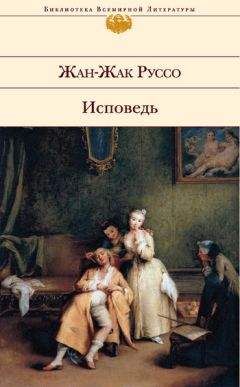К концу зимнего сезона я написал по-французски этюд, который отдал Вырубову перед отъездом в Лондон. Он давал его читать и Литтре как главному руководителю журнала, но шутливо заявлял, что Литтре «в этом» мало понимает. А «это» было обозрение тогдашней сценической литературы. Этюд и назывался: «Особенности современной драмы».
В этом этюде я говорил не только о театрах Парижа и выдающихся драматургах, но и о критике. Я не мог не поставить впереди других Фр. Сарсе, а из писателей — Дюма-сына. К Ожье я отнесся тогда не так, как стал оценивать его позднее, когда разностороннее изучил его театр. Ожье и Т. Баррьер стояли и тогда как бытописатели выше Дюма по созданию характеров и сценическому складу своих комедий. А Сарду и тогда уже являлся для меня ловким сценических дел мастером, очень даровитым, но добивающимся прежде всего успеха, чего он и добивался каждой своей новой вещью.
В Дюма-сыне меня привлекали идейность его пьес, ум, блестящий диалог и постановка интересных общественных и этических задач. Тогда такая его комедия, как «Les Idees de madarae Aubray» считалась очень сильной, и пугливые моралисты находили эти «идеи» рискованными и даже опасными. И Сарсе был как раз тот критик, который стоял на стороне автора и старался защищать его идеи и сюжеты так, чтобы публика с ними полегоньку мирилась. Но в пьесах Дюма привлекали не одни их темы, а также и то, как известные типы и характеры поставлены, как развивались нравственные коллизии и как симпатии автора клонятся к тому, что и мы считали тогда достойным сочувствия.
Мой этюдец я мог бы озаглавить и попроще, но я тогда еще был слишком привязан к позитивному жаргону, почему и выбрал громкий научный термин «Phenomenes». Для меня лично после статьи, написанной в Москве летом 1866 года, — «Мир успеха», этот этюд представлял собою под ведение некоторых итогов моих экскурсий в разные области театра и театрального искусства. За плечами были уже полных два и даже три сезона, с ноября 1865 года по май 1868 года.
В зиму 1867–1868 года расширилось и мое знакомство с парижской интеллигенцией в разных ее мирах. Парламентская жизнь, литературные новости, музыка (тогда только начавшиеся «популярные» концерты Падлу), опера, оперетка, драматические театры, театральные курсы и опять, как в первую мою зиму, усердное посещение Сорбонны и College de France.
Ноту оппозиционного либерализма среди лекторов продолжал держать любимец публики Лабуле на своих курсах в College de France. Он не имел ученой степени (как и многие его коллеги) и носил только звание адвоката. Но в таком открытом заведении, как College de France, не держались университетской иерархии. Всякий выдающийся писатель, публицист, ученый (в том числе, конечно, и владеющие высшими дипломами) — могли, да и теперь могут, получать там кафедры.
Этот Дом курсов — до сих пор единственный во всей Европе, основанный еще при короле Франциске I, доступный всем и каждому, прямо с улицы. Без точных делений на факультеты, он, однако, давал вам, если б вы захотели слушать все науки, которые там преподают, не только огромное энциклопедическое образование, но и специальную выучку. В идею College de France входило также и создание новых кафедр, какие еще не введены в университетские программы, по всем отраслям знания. Там же тогда (теперь есть уже для этого специальные заведения) только и можно было изучать восточные языки, вплоть до китайского.
Сорбонна была настолько еще в тисках старых традиций, что в ней не было даже особой кафедры старого французского языка. И эту кафедру, заведенную опять-таки в College de France, занимал ученый, в те годы уже знаменитый специалист Paulin Paris, отец Гастона, к которому перешла потом кафедра отца. У него впоследствии учились многие наши филологи и лингвисты. Именами вообще College de France щеголял сравнительно с древней Сорбонной.
Довольно упомянуть о такой величине в области естествознания, как химик Вертело, а по гуманитарным наукам Ренан и Критик Сент-Бёв, тогда уже сенатор империи. Но он не показывался на кафедре после одной неприятной для него студенческой демонстрации (за измену своему прежнему либерализму), и его кафедру латинской словесности занимал всегда какой-то заместитель.
Рядом с Вертело, к кому я, по старой памяти экс-студента химии, также захаживал, стояла такая сила, как Клод-Бернар, создатель новой физиологии, тот самый, кому позднее, при Третьей республике, поставили бронзовую статую перед главным входом во двор College de France, на площадке, окруженной деревьями, по rue des Ecoles.
Мне уже нельзя было так «запоем» ходить на лекции, как в первую мою зиму, но все-таки я удосуживался посещать всех лекторов, которые меня более интересовали. Из них к Лабуле я ходил постоянно, вряд ли пропуская хоть одну из прекрасно изложенного курса о «Духе законов» Монтескье.
Лабуле занимал кафедру государственного права европейских держав, но выбором своих тем не стеснялся и систематических курсов не читал.
Своей тогдашней популярностью он обязан был своему лекторскому таланту. Он не был оратор в условном смысле; в нем не чувствовался и бывший судебный защитник, привыкший к чисто адвокатским приемам красноречия. Он говорил довольно тихим голосом, без парижской красивости и франтоватости дикции, но содержательно, с тонкой диалектикой и всякими намеками — в оппозиционном духе.
Из-за них, конечно, больше и ходили к нему и своими аплодисментами поддерживали эти проявления — нисколько, в сущности, не крайнего — свободомыслия. Но в аудитории Лабуле (она и теперь еще самая просторная во всем здании) чувствовался всегда этот антибонапартовский либерализм в его разных ступенях — от буржуазного конституционализма до республиканско-демократических идеалов.
Сам Лабуле не был вовсе сторонник крайнего демократизма. Он считал даже всеобщую подачу голосов, которой Наполеон III воспользовался для своего государственного переворота, нисколько не желательной. Когда позднее я у него был с визитом, он, показывая мне серебряную чернильницу, подаренную ему незадолго перед тем его избирателями (он был побит на выборах своим соперником, кандидатом правительства), сказал мне:
— Всеобщая подача — ловушка! Она долго будет поддерживать существующий режим.
Мало было тогда на кафедрах и в публицистике таких чистой воды конституционалистов, как Лабуле, и вообще защитников свободомыслия — не в одной политике.
Тогда и вопрос независимости французской церкви стая на очереди. Бонапартов режим поддерживал папство (французский корпус занимал еще Рим), и французское высшее духовенство все погрязало более и более в ультрамонтанство, то есть в безусловное подчинение римской курии.