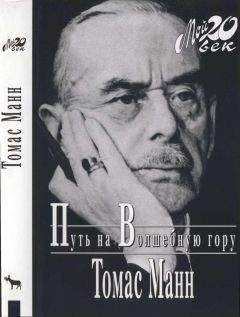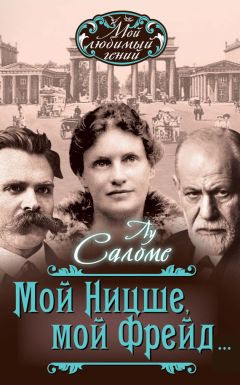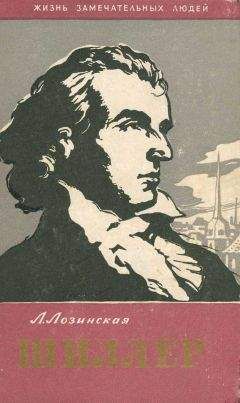«Даже потеряв сон, буду работать» — эти упрямые слова были однажды записаны в дневнике; и действительно, даже в самые мучительные периоды недуг не мог помешать продвижению романа. Слишком полон я был своей почти уже выполненной задачей и слишком уверен в том, что теперь делал. На день или на два я прервал работу в конце сентября, чтобы в форме письма Богушу Бенешу, племяннику нашего друга и покровителя, президента Чехословакии, написать предисловие к его роману «God’s Village»[291], выходившему в Англии; затем, утро за утром, я снова шагал своим путем, придавая мифической драме о женщине и друзьях жуткую и особенную развязку: рассказал, как Адриан выразил желание жениться, изобразил зимнюю экскурсию в баварские горы, написал диалог между Адрианом и Швердтфегером в Пфейфе — ринге (гл. XLI), эту загадочно — странную беседу, за которой таится мотив черта и сочиняя которую я несколько раз записал в дневнике: «Читал Шекспира», — прибавил предшествующие помолвке сцены между Руди и Мари и во второй половине октября, с легкостью (как легко повествовать о катастрофах!) закончил XLII главу — убийство в трамвае. Несколько дней спустя, читая эти разделы у Нейманов в Голливуде, я вспомнил, что образ электрического огня, с шипеньем и треском вспыхивающего под колесами и над дугою приближающегося вагона, где должно произойти убийство, живет в моем воображении с давних времен. Эта идея принадлежала к числу тех старинных, так и не реализованных замыслов, о которых я уже упоминал выше. Около пятидесяти лет вынашивал я этот призрак «холодного пламбни», пока наконец не пристроил его в позднем произведении, вобравшем в себя немало эмоций тех юных дней… Кстати сказать, Китти Нейман спасла меня от серьезной ошибки в топографии Мюнхена. Ареной преступления Инесы я сделал было вагон линии № 1, а ведь этот трамвайный маршрут, оказывается, никогда не вел в Швабинг! Мне предоставили богатый выбор других номеров, и теперь благодаря бдительности моей слушательницы, тотчас же и весьма обстоятельно высказавшейся по поводу этого ляпсуса, в тексте романа, в полном соответствии с действительностью, значится № 10.
Опять приехали детишки из Сан — Франциско, и опять появляется заметка: «Рисовал для Фридо — пальму, железную дорогу, виолончелиста, горящий дом». Теперь в дневнике многократно встречаются уже какие‑то преображенные, просветленные, отвлеченные описания Фридо, и здесь часто фигурирует слово «эльфический». «Он производит впечатление эльфа». «Утро провел у себя на балконе с этим эльфическим малышом»… Его час приближался. XLII глава, а тем самым и вся предпоследняя часть книги была завершена к концу октября, а 31 октября я начал XLIII — главу камерной музыки, подводящую уже к «Плачу», оратории, работа над которой, однако, откладывается из‑за приезда и страшной смерти этого дивного ребенка. Но сколько всяких событий, политических и личных, сколько впечатлений от книг, сколько всяких инцидентов, вызванных общением с людьми и чтением почты, непрестанно примешивается к моему главному занятию, к насущнейшему труду, каковому уделяется, собственно, не более трех — четырех лучших, герметически отрешенных дневных часов! Что касается книг, то романы Конрада по — прежнему казались мне наиболее подходящим или, во всяком случае, наименее вредным на данной стадии моего собственного «романа» развлечением. Читая с огромным удовольствием «The Nigger of the Narcissus», «Nostoromo», «The Arrow of Gold», «An Outcast of the Islands»[292] и как там еще называются все эти превосходные вещи, — я обращался и к произведениям совершенно иного рода, таким, например, как «Стихийный дух» Гофмана, и к чисто филологической литературе, питающей и подстегивающей лингвистическую фантазию, вроде «Пословиц средневековья» достопочтенного Самуэля Зингера из Берна. В сентябре разыгрался конфликт Уоллес — Бирнс, и Secretary of commerce[293]» чья речь о внешней политике угрожала парижской «программе мира», был уволен преемником и ставленником Рузвельта. На Уоллеса поставили клеймо «praised by reds»[294], а вскоре этого уроженца Айовы объявили и попросту иностранным агентом. В тот вечер, когда по радио сообщили об его отстранении от должности, мы послали ему приветственную телеграмму. На эти же дни пришлась и цюрихская речь Черчилля о пан — Европе, ратующая за франко — германское сотрудничество под американским и русским протекторатом. По своему подозрительному германофильству эта речь превзошла штуттгартские высказывания американского государственного секретаря, и теперь яснее, чем когда‑либо, обнаружились и стремление перевооружить Германию для войны с Россией, и личные надежды старого вояки на «one more gallant fight»[295]. В начале ноября республиканцы одержали у нас победу на выборах, получив около 55 процентов голосов. По мнению европейских комментаторов, Трумэн дискредитировал свою партию, и, в отличие от всего остального мира, Америка стоит на правых позициях. Она поправеет еще больше. Могущественные круги стремятся начисто разрушить дело Рузвельта и, вконец разъяренные запоздалым сожалением о том, что Германия побита Россией, а не Россия Германией, как им хотелось, стремятся пойти еще дальше по пути реакции — куда же? К фашизму?.. Все эти проблемы, так или иначе ежедневно о себе напоминавшие, тоже занимали мои мысли и, наряду с событиями прошлых лет, составляли фон этого романа одного романа.
Не лишено было политической окраски и одно частное событие конца сентября. Почта доставила мне письмо одного бывшего боннского профессора, работавшего теперь в Лондоне, которого уполномочили заранее выяснить, согласен ли я снова принять звание почетного доктора Боннского философского факультета, отнятое у меня под нажимом нацистов.
За естественно мирным тоном моего ответа: «С удовольствием приму!» — скрывалась успокоительная мысль, что все сказанное мною моим соотечественникам и миру в 1937 году, в связи с моим национальным и академическим отлучением, что «Переписка с Бонном», стало быть, отнюдь не зачеркивается этим восстановительным актом… И вскоре я вновь получил, в двух экземплярах, давно уже забытый мною высокопарно — латинский диплом 1919 года с очень теплыми сопроводительными письмами ректора и декана… В один из сентябрьских вечеров у меня долго сидел некий молодой человек, до глубины души потрясенный исходом выборов и новым политическим курсом своей страны, студент из Чикаго, член общества, пропагандирующего идею world government[296], и вел со мной долгую беседу, в ходе которой об угрозе атомной бомбы и о необходимости международного контроля было сказано в точности то же самое, что в воззвании Эйнштейна и семи других физиков, опубликованном несколько недель спустя. Мой посетитель убеждал меня поехать в Чикаго и произнести перед участниками его организации речь о создании всемирного комитета для защиты мира. Я не мог дать согласия на такую поездку, но зато обещал ему написать statement[297], или, выражаясь торжественнее, послание о мире как главной заповеди и о претворении этой утопии в практическое требование жизни и действительно прервал работу над текущей главой, чтобы сказать свое слово этой горячей, живой молодежи — нисколько, разумеется, не сомневаясь, что мой призыв потонет в злосчастных волнах судьбы еще быстрей и безвестнее, чем манифест великих ученых.