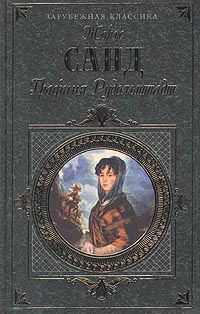По четвергам в Академии эти два человека, которых тянуло друг к другу, выбирали себе места по соседству. Пастер оценил «чуткость этого сердца, которое открывалось тем шире, чем достойнее был повод…». Однажды Дюма, слушая прения, сделал из листка бумаги птичку. Пастер выпросил у него эту игрушку для своей внучки. Дюма отдал ему птичку, написав на крыле: «Одна из моих героинь, пока неизвестная».
Пастер знал, что Дюма, когда ему сообщали о чьем-то действительно бедственном положении, бывал щедр. Он слыл «прижимистым». Враги ехидно говорили о нем: «сын мота – жмот», и эти слова они приписывали Жорж Санд. Это ложь; госпоже Санд лучше, чем кому-либо, было известно бескорыстие человека, который написал за нее множество пьес и отказался от гонорара. Наученный горьким опытом отца, Дюма-сын считал деньги. Благоразумие – не скупость.
Врагов у него хватало. Его остроты, подчас жестокие, оскорбляли людей. У своего приятеля, барона Эдмона Ротшильда, он однажды спросил: «Не оттого ли, что я написал „Полусвет“, вы сажаете меня за один стол с моими героинями?»
Госпоже Эдмон Адам (Жюльетте Ламбер), которая хотела свести его с Анри Рошфором, он написал:
«Дорогой друг! Говорю Вам совершенно откровенно… Этот человек, вечно восстающий против всех и вся только потому, что все и вся стоят выше его; человек, оскорбляющий всех и вся только потому, что он всех и вся ненавидит; человек, который брызжет ядовитой слюной на своих прежних друзей, когда не может их укусить; человек, самым своим существованием обязанный людям, которых он готов убить; чья признательность тем, кто его спас, выражается не иначе, как руганью и клеветой; человек, выпускающий гнусную газету и сознающий, что она гнусная, – только ради того, чтобы зашибить деньгу и обеспечить себе благополучие, которым он попрекает других, – этот человек достоин презрения и презираем по заслугам. Вы обладаете способностью дышать в подобной атмосфере, – это особое органическое свойство; что касается меня, то я выбил бы стекла, чтобы глотнуть воздуха…
Вы находите очень забавным сажать за один стол бывших сторонников империи и Вашего монстра, с которым, пользуясь случаем. Вы хотели бы примирить Вашего друга Дюма, так как Вам надоело и Вас раздражает, что первый так оскорбляет второго. Но есть типы, чьи оскорбления – благо, ибо в конце концов существуют люди порядочные и существуют совсем другие. Ваш приятель Рошфор – среди последних, и как бы Вы ни старались, Вам не удастся извлечь его из этого круга.
Что может делать такое чистое и светлое существо, как Вы, в обществе этого детища хаоса и грязи? Неужели же Вы надеетесь очистить эту клоаку и оздоровить это болото?»
Если гнев рождает стихи, то полемика заостряет прозу. Однако остроты Дюма, в то время приносившие ему все большую славу, нередко кажутся нам посредственными. Он украшал ими свои обеды по вторникам (там бывали Детай, Мейсонье, Лавуа, Миро, Мельяк) и обеды у госпожи Обернон.
– Я глухой, хоть и сенатор, – сказал ему маршал Канробер.
– Это самая большая удача, какая может выпасть сенатору, – ответил Дюма.
Молодой актрисе, которая, вернувшись со сцены, сказала ему: «Потрогайте мое сердце, – слышите, как оно бьется? Как вы его находите?» – он ответил: «Я нахожу его круглым».
Когда ему сказали, что его приятель Нарре, став чересчур толстым, теперь немного поубавил в весе, он заявил: «Да, он худеет с горя, что толстеет».
Принцу Наполеону, который за глаза поносил одну из его пьес, а при встрече с автором поздравлял его с удачей, он заметил: «Ваше высочество поступили бы лучше, говоря другим о достоинствах моей пьесы, а мне – о ее недостатках».
Так как его пьесы все еще шли с успехом, новые постановки всецело занимали и молодили его.
Знаменитому стареющему писателю отрадно предоставить свой опыт и свое мастерство в распоряжение молодых людей, таких, каким когда-то был он сам. Теперь «Даму с камелиями» играла Сара Бернар. В этой роли она была неподражаема и всякий раз вносила что-то новое. Когда по ходу действия пьесы понадобилась гербовая бумага, она сымпровизировала: «Не ищите – у меня ее сколько угодно». Дюма-сын ее баловал и задаривал конфетами с ликером, которые она очень любила.
Когда Комеди Франсез возобновила «Иностранку», Дюма настоял, чтобы роль, которую играла Сара, поручили Бланш Пьерсон. Роль Круазет получила Барте. Пьеса зазвучала по-иному – пожалуй, даже лучше. Драматург понимает, что жизнь пьесы зависит не только от нее самой, но и от прочтения, и ему приятно сознавать, что после его смерти его произведения будут меняться, а значит – жить.
Комеди Франсез стала теперь, как в свое время Жимназ, домом Дюма-сына. Смерть генерального комиссара Эмиля Перрена была для Дюма большой утратой. Этих двух людей – холодных и высокомерных – связывала прочная дружба. Когда Перрен заболел неизлечимой и мучительной болезнью, Дюма часто приходил к нему, стараясь его ободрить. В один июньский день 1885 года Перрен послал сказать Дюма, что он хочет как можно скорее увидеть его: «Я умру с минуты на минуту – я хотел бы пожать Вашу руку, проститься с Вами и поблагодарить Вас за последнюю большую радость моей жизни – успех „Денизы“. Вернувшись домой, Дюма сказал своей дочери: „Нельзя умереть более стойко, чем он“.
Другим горем была смерть Адольфа де Левена – старейшего друга семейства Дюма. Страдавший раком желудка, Левен отказался от пищи и умирал с голоду, окруженный своими четырьмя собаками, которые лизали ему руки, и птицами, певшими в большой вольере. Дюма приходил к нему три раза в день.
– Как вы себя чувствуете? – спрашивал он.
– Как человек, уходящий из этого мира. Я уже предвкушаю иной мир. Я прожил достаточно; ничто из нынешних событий меня не занимает.
Дюма требовал, чтобы он принял хоть немного пищи.
– Зачем? Мне выпало счастье умирать без мук. Если я восстановлю свои силы – кто знает, что со мною будет потом?
В свои восемьдесят два года Левен был худощавый, стройный старик с удлиненным, чуть красноватым лицом; он носил слегка набекрень шляпу с очень высокой тульей, большой отложной воротник и длинный галстук, несколько раз обвязанный вокруг шеи. Он одевался так же, как во времена Луи-Филиппа; его борода в восемьдесят лет упрямо оставалась черной. Нервный, раздражительный, он тем не менее отлично ладил сначала с Дюма-отцом, а потом и с Дюма-сыном. Он сделал Дюма-сына своим единственным наследником и оставил ему свое имение Марли в память тех счастливых лет, что они провели там вместе. Он приказал Дюма держать у себя его лошадей до их естественной смерти, чтобы им никогда не пришлось ходить в упряжке, тащить фиакр или телегу. Каждой из своих собак он назначил содержание. Отпевали его в Марли, похоронили на кладбище Пек. Дюма произнес речь и зачитал отрывок из «Мемуаров» Дюма-отца, где автор «Антони» рассказывал о своей встрече со шведом, который сделал из него французского драматурга.