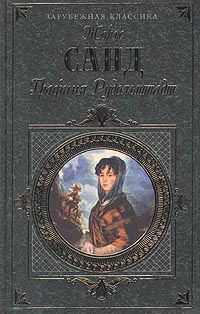«Александру Дюма – третьему носителю этого славного имени, уже исполнилось шестьдесят два года, но энергия его племени еще не истощилась в нем. Какой человек! Какой великолепный Негр! Он обращается с нами, как с белыми. Он дает нам почувствовать свою силу, а иногда и жестокость; нас это вполне устраивает. Ведет он публику по правильной или по ложной дороге, он делает это рукою мастера. Он владеет и управляет ею примерно так же, как его дед управлял лошадьми. Если и есть какая-либо разница между молодым и сегодняшним Дюма, она состоит не в том, что теперь он слабее; она состоит в том, что, вволю насладившись своими природными данными и своим искусством, он предпочитает теперь упражнения одновременно и более простые и более трудные…»
Мир, который Дюма живописал в «Франсийоне», был его обычным миром, где мужчины при белом галстуке из гостиной своей супруги едут в клуб, а оттуда попадают в спальню «небезызвестных девиц». Фауна Дюма-сына здесь представлена полностью: тут и бессовестный муж, и оскорбленная жена, и друг – завсегдатай клуба, но при этом философ, и приятельница-резонерка; тут и аппетитная особа – наполовину традиционная инженю, наполовину просвещенная девица образца 1887 года. Однако диалог был искрометный, действие стремительное, и публика бурно приветствовала своего покорителя.
«Франсийон» прошел на «ура». При поднятии занавеса публика рукоплескала художнику. «Странный аппарат из дерева и никеля» привлек все взгляды: еще ни разу до этого памятного вечера на сцене Французского театра не видели телефона! «Ну и смельчак этот Кларети!» – шептались зрители. «Я был очарован, увлечен, взволнован не меньше, чем публика, – писал Сарсе. – Первое действие ослепляет… Фейерверк острот. Остроты, обыгрывающие ситуацию, характер, блестящие каламбуры! Богатство, не поддающееся описанию!» Франсина де Ривероль в исполнении Юлии Барте походила на «задорную козочку, бьющую копытами».
Дюма-сын – Юлии Барте: «Все целуют Вам руки. Вам, победившей вдвойне, – получаются стихи, которые я не способен продолжать. Оставайтесь долгие годы такой же. Это пожелание человека, который может теперь только желать…»
«Ах, уж этот Дюма, этот Дюма! – злословили в гостиных. – Он хочет убедить нас в том, что светская женщина, будучи обманута мужем, способна подцепить первого встречного и на другой же день начать хвастаться тем, что стала любовницей этого незнакомца. Ну и история!» Другие усматривали в пьесе определенный тезис: «Око за око, зуб за зуб!» – вот девиз Вашей героини, и Вы его одобряете. Вы провозглашаете право женщины на возмездие. «Убей ее!» – говорили Вы прежде, и по Вашей команде под аплодисменты присяжных вытаскивались револьверы… «Измени ему!» – говорите Вы теперь – и ночные рестораны сразу же распахивают свои двери и отпирают отдельные кабинеты».
Дюма не говорил: «Измени ему!» Наоборот. Однако он утверждал, что, хотя адюльтер не имеет для мужчины тех последствий, какие он имеет для женщины, и для него это далеко не пустяк.
Читателя нашего времени, видевшего немало куда более рискованных пьес, удивляет, что эту пьесу считали «грубой». В ней все же была правда. Общество, описанное в «Франсийоне», – это не общество Сен-Жерменского предместья, еще менее – общество квартала Марэ. Это мир Елисейских Полей и равнины Монсо. «В этом районе Парижа добродетель встречается не так редко, как стыдливость. Там есть порядочные женщины, но жаргон, на котором они изъясняются, нередко с примесью площадных словечек, бросает вызов приличию. Файф-о-клок в одной из гостиных этого мирка, или, вернее сказать, в холле, у молодой супружеской четы, в кругу близких друзей, вот тот маленький праздник, на который нас приглашает г.Дюма…» – писал Луи Гандера.
И в заключение Гандера еще раз напоминал о происхождении Дюма, зная, что это не может не понравиться его другу:
«Еще больше, чем само произведение, поражает нас его автор – его сила, которую мы ощущаем в его виртуозности; его жизнерадостность, непосредственным выражением которой является бьющее через край веселье. Мы все – кто бы мы Ни были – восхищаемся г-ном Дюма; мы его любим, и если нам есть за что прощать его, мы с радостью это делаем, ибо внук победителя при Бриксене спустя сорок лет – или около того – после своего литературного дебюта все еще являет нам с истинно негритянским темпераментом самый язвительный ум и самое блестящее, самое беспощадное и самое меткое остроумие, какое только может явить парижанин».
Глава пятая
ЛЮБОВЬ И СТАРОСТЬ
Талант не возмещает того, что уничтожает
время. Слава молодит только наше имя.
Шатобриан, «Письмо к Анри Ривьеру»
Действительно, в то время Дюма иногда казался необычайно веселым. Этот созерцатель любви вынужден был наконец сознаться себе, что влюблен, как шестидесятилетний мужчина может быть влюблен в молодую женщину – с отчаянной страстью, внушающей последнюю надежду.
С очень давних пор он вел дружбу со старым, ушедшим на пенсию актером – почетным старшиной Комеди Франсез – Ренье де ла Бриером, которого называли просто Ренье. Трудно представить себе более привлекательную чету, чем супруги Ренье. Муж, в прошлом актер высокого класса, затем архивариус Французского театра, профессор Консерватории, режиссер и, наконец, заведующий постановочной частью Оперы, прошел хорошую школу у ораторианцев. Это был маленький человек, любезный и саркастичный; его непосредственная и отточенная актерская игра в свое время и волновала и развлекала публику. «Он не гнался за эффектами, они сами шли к нему». Он написал несколько превосходных книг, в том числе «Тартюф и актер».
Его жена, женщина удивительной красоты, была дочерью Луизы Гревдон из Жимназ, некогда обожаемой любовницы Скриба.
Его дочь – еще одно чуде – в восемнадцать лет вышла замуж за архитектора Феликса Эскалье, который был в то же время и живописцем. Дюма-сын знал восхитительную Анриетту еще ребенком. Он наблюдал, как вместе с нею растут ее очарование и изящество, – он восторгался ею. Ее брак с архитектором был прискорбной ошибкой. Казалось, только один этот каменный человек не боготворил эту женщину – свою жену, за которой безуспешно ухаживало столько других мужчин. Немало выстрадав, она разошлась с ним и теперь, разочарованная, упавшая духом, жила у родителей. Анриетта всегда восхищалась Дюма, но он внушал ей робость; перед ним она «чувствовала себя маленькой девочкой». Она спрашивала у него совета, что читать, и благодарила за жалость к ней. «Чувство, которое я питаю к Вам, вовсе не жалость, – отвечал он, – это самая безграничная нежность». Она жаловалась на одиночество и просила увенчанного славой драматурга, который, по ее мнению, был «прекрасен, как бог», чтобы он проводил с нею время и развлекал ее.