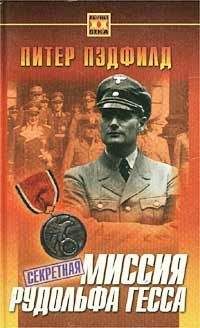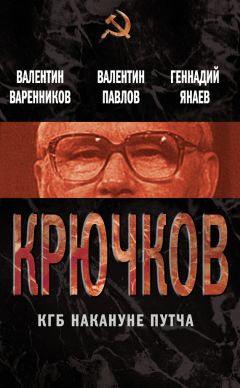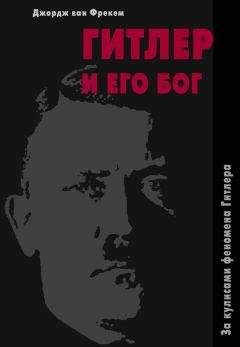В ноябре 1969 года, десять лет спустя после попытки Гесса вскрыть вены, он впал в депрессию еще более глубокую. Он оставался в постели, отказывался от еды, не умывался и не брился, а только стонал от боли, да так громко, что его стенания, по словам американского коменданта, Юджина Берда, доносились до солдат, охранявших периметр стены. "Это были жуткие стенания, — писал Берд, — он стонал так громко, как только можно стонать, не переходя на крик". В этот раз стоны его оказались не инсценированными. Когда начальство наконец осознало это, его срочно отправили в специально оборудованную для него палату Британского военного госпиталя. Со дня его прибытия в Шпандау прошло двадцать два года, и он впервые покинул пределы тюрьмы. У него произошло прободение язвы, осложнившееся разлитым перитонитом. Восемь дней спустя, в ночь на 29 ноября, у него возникло чувство, что он умрет— момент этот приобретет значение для определения происхождения поздней "предсмертной записки". Он потребовал пригласить к нему британского кардиолога, доктора Зейдля и немецкого нотариуса, чтобы засвидетельствовать подлинность заявления, которое намеревался подписать; еще он попросил известить своего сына.
В ту ночь он не умер. В последующие дни комфорт и роскошь больничной палаты после каменных стен его камеры, внимательный уход медицинских сестер ослабили его решимость не видеться с семьей в позорных условиях заключения, и он позволил полковнику Берду уговорить себя согласиться на рождественский визит Ильзе и сына. Они прибыли в госпиталь во второй половине дня 24 декабря — седая теперь Ильзе и тридцатидвухлетний Вольф Рюдигер, которого Гесс в последний раз видел трехлетним «Буцем». Когда они вошли в комнату, где он сидел в напряженном молчании, он, как пружина, вскочил со стула и поднес руку в знак приветствия ко лбу.
— Целую твою руку, Ильзе!
Некоторое время они смотрели друг на друга, не веря своим глазам, пока Ильзе не ответила, сдерживаемая сыном, чтобы не броситься навстречу с распростертыми объятиями:
— Целую твою руку, отец!
Они сели по противоположные стороны стола, установленного между перегородками, разделявшими комнату. Гесс разыграл убедительное, жизнерадостное представление. Он расспрашивал их о полете, заверял, что "получает превосходное лечение и отличный медицинский уход", рассказывал о своей болезни, слушал новости о родственниках. Им дали тридцать минут, растянувшиеся до тридцати четырех.
В постель Гесс вернулся с довольной улыбкой.
— Я так счастлив, что увидел их, — сказал он полковнику Берду. — Мне жаль, что я так долго ждал…
Одна вещь, сказанная Гессом во время той первой встречи, приобретет такую же значимость для выявления происхождения поздней "посмертной записки", как и его уверенность в прошедшем месяце, что он умрет. Связана она с его бывшей секретаршей Хильдегард Фат, известной в близких кругах под именем «Фрайбург». Следует вспомнить, что, симулируя амнезию перед Нюрнбергским процессом, он притворился, что не узнал ее, что явно ее расстроило. Объяснить причины в письмах домой он не мог, так как Нюрнберг был запретной темой. По всей вероятности, это не давало ему покоя, так как в первые минуты встречи он попросил Ильзе передать привет «Фрайбург» и сказать ей, что он очень сожалеет, что двадцать с лишним лет назад обошелся с ней не лучшим образом. Не приходится сомневаться, что именно такой смысл вложил он в слова, так как они впервые были опубликованы в книге его сына, вышедшей в 1984 году, за три года до его смерти, то есть когда ни о какой "предсмертной записке" не могло быть и речи.
Этот первый визит заставил Гесса отказаться от первоначального решения не встречаться с семьей в тюремных застенках. Выздоровев, он вернулся в свою сдвоенную камеру-часовню в Шпандау. Туда ему поставили больничную кровать и кресло. Теперь его регулярно навещала Ильзе, Рюдигер и другие члены семьи, за исключением внуков, которых он не хотел видеть в такой обстановке.
Мы уже не узнаем, помогали ли эти визиты сохранить ему душевное равновесие или же короткие встречи, напоминавшие о любви, семье и недосягаемом для него мире, служили своего рода изощренной пыткой в его страданиях, грозившей расколоть его панцирь отшельника, в который он себя упрятал. Однако его продолжавшееся заточение оставалось, как выразился его сын, "беспримерной мукой", а появлявшиеся время от времени проблески надежды на освобождение только бередили незаживающую рану.
В феврале 1977 года он пережил еще один приступ депрессии, во время которого пытался ножом перерезать артерию. Известие о попытке самоубийства всколыхнуло новую волну выступлений влиятельных на Западе лиц с призывами о его освобождении. Лорд Шоукросс, бывший главный обвинитель в Нюрнберге с британской стороны, объявил, что его длительное заключение является скандалом: "Ни в одной цивилизованной стране мира понятие «пожизненное» не воспринимается буквально. Принцип гуманности как раз и состоит в том, чтобы преступник, осужденный на «пожизненное» заключение, через соответствующий период выпускался на свободу…" Русские продолжали упорствовать.
В декабре 1978 года Гесс перенес удар, неблагоприятно сказавшийся на его зрении. После случившегося (через сорок с лишним лет после вынесения приговора, признать который он отказывался), его наконец уговорили обратиться с апелляцией. Он просил не о помиловании, а о снисхождении, в связи с плохим состоянием здоровья. Прошение адресовалось тюремному начальству. Он писал, что убежден, что жить ему осталось недолго, что хочет перед смертью посмотреть на внуков. Он напомнил о трех других узниках, осужденных на «пожизненное» заключение, фон Нойрате, Редере и Функе, которых давным-давно выпустили на свободу. В удовлетворении прошения ему было отказано, то же произошло и со следующей его апелляцией, написанной на другой год.
К 1984 году, когда он разменял девятый десяток жизни, здоровье его настолько ухудшилось, что для облегчения его выхода в сад (дважды в день) пришлось установить лифт. Раз в неделю в этих одиноких прогулках его много лет сопровождал французский капеллан; пастор Шарль Габель очень привязался к этому тщедушному старику, и в апреле 1986 года, в преддверии сорок пятой годовщины его ареста в Великобритании, Габель от имени заключенного обратился к британскому премьер-министру Маргарет Тетчер. 7 мая, сидя с Гессом в саду, он сказал ему, что получил от миссис Тетчер ответ; она говорила, что его заключение «бесчеловечно», но Советы не хотят выпустить его. Ее правительство, продолжала она, приложит все усилия, чтобы добиться его освобождения, но "все зависит от согласия Советов".