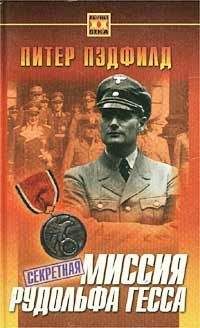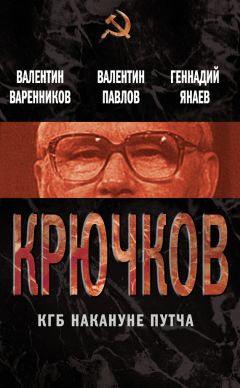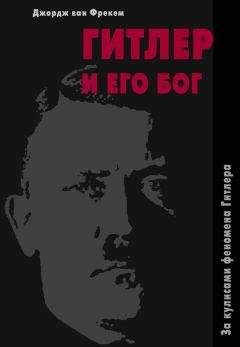Здесь же, оставшись единственным в Шпандау узником, он сидел с бывшим американским комендантом, Юджином Бердом, который спросил его однажды, правда ли, что он поклялся, что если выйдет на свободу, то никогда не будет держать птиц в клетках.
— Да, — кивнул он.
Берд вел с Гессом регулярные беседы, желая, как он признался узнику, из первых рук получить информацию о его жизни, чтобы потом исправлять неточности, допущенные авторами, не имеющими возможности узнать правду о его полете. Тогда едва ли Гесс мог рассказать ему всю правду. Чтобы защитить фюрера и оправдать собственный просчет, он давно окутал себя такой броней полуправды, что, вероятно, сам в ней потерялся. От прямых ответов он воздерживался, и острые углы были сглажены. Когда Берд спросил, не знал ли Гитлер о полете, Гесс заверил, что не знал. Если бы Гитлер знал о его плане, то непременно арестовал бы. Он вез письмо герцогу Гамильтону, с которым виделся во время Олимпийских игр в Берлине, но не помнил, что было в нем.
В другой раз он сказал Берду, что несправедливо считать, что он знал герцога. Он никогда не встречался с ним, они никогда вместе не обедали. Если во время Олимпийских игр они находились в одном помещении, это ни о чем не свидетельствует, они даже не разговаривали. Конечно, он знал о летных достижениях Гамильтона.
Берд хотел дать ему прослушать магнитофонную запись документальной передачи Би-Би-Си о его полете. Несколько волнуясь по поводу того, что может он услышать, Гесс подчеркнул, что задача перед ним стояла великая, и он ее не стыдится. Он хотел положить войне конец, остановить кровопролитие и людские страдания и прийти с Англией к взаимопониманию. На вопрос Берда, в самом ли деле он надеялся на удачное разрешение его миссии, он рассмеялся. "Конечно, если бы не надеялся, то с какой стати полетел бы?"
Берд включил магнитофон. Он не спросил, какие у него имелись причины рассчитывать на успех и почему он выбрал Гамильтона.
В другой раз они говорили о Хаусхоферах. О его полете им ничего известно не было, утверждал Гесс. Они работали над платформой для переговоров, но ничего о полете не знали, а то, что на переговоры полетит он сам, им даже в голову не могло прийти.
"Долгое время мы ничего не слышали от герцога Гамильтона, и возникла насущная необходимость начать действовать, иначе мы могли опоздать. Существовала опасность, что Англия заключит пакт с Америкой прежде, чем мы найдем кого-то, чтобы провести переговоры на высшем уровне…"
Когда Берд сказал ему, что британцы утверждают, что он прибыл без конкретных предложений, но зато только потребовал от Британии покинуть Ирак и угрожал Англии блокадой и голодом, Гесс ответил, что эти утверждения ложны; он ни разу не поднимал вопроса об Ираке, а угрожать кому-то голодом было противно его природе. Конечно, многое стерлось из памяти. Порой он прямо говорил об этом, словно хотел напомнить, что у него были проблемы с памятью. Тем не менее после бесконечных увиливаний он в конце концов признался, что о плане «Барбаросса» знал до полета.
Некоторое время спустя, после того как Берд покинул Шпандау и опубликовал о нем книгу "Самый одинокий человек в мире", на той же скамейке Гесс сиживал с Шарлем Габелем. Еженедельные визиты пастора проходили по давно установившемуся ритуалу: сначала на старом тюремном проигрывателе минут двадцать они слушали любимые Гессом пластинки, Моцарта, Бетховена, Шуберта, затем отправлялись в сад на прогулку. Из записей бесед, опубликованных впоследствии Габелем в книге, ясно, что, вопреки почтенному возрасту, физической слабости и длительному тюремному заключению, Гесс сохранил остроту ума и суждений. Ясно и то, что, несмотря на экстравагантность поведения в периоды депрессии в ранние годы и циклично повторяющиеся приступы безысходного отчаяния, в промежутках между этими состояниями он придерживался жесткой внутренней дисциплины и сознательно занимался активной умственной деятельностью. Он освоил новую для себя дисциплину: исследование космоса — и имел в этой области собственные оригинальные мысли, он глубоко и систематически изучал историю и философию и делал по ходу чтения аналитические записи. Кроме того, пока позволял возраст и состояние здоровья, он ежедневно занимался физической зарядкой. Источником его силы, как он признался Берду, была его вера в Бога — "не в церковь, но в Бога". Свою веру в Бога он считал сродни философии. Собственную философию он строил на концепции Шопенгауэра, что человеком управляет судьба, но делал при этом вывод: "Разве в действительности наша судьба не в руках Божьих?"
Габель ничуть не сомневался, что психически Гесс был совершенно нормален. Во время бесед в саду он с удивлением для себя обнаружил в Гессе сдержанное чувство юмора. Однако, когда в разговоре с узником он пытался коснуться полета, то Гесс оставался безучастным, словно данная тема его не интересовала. Возможно, причина молчания крылась в предыдущих пристрастных допросах полковника Берда.
Несколько раз Габель предлагал ему сделать публичное заявление о том, что сожалеет, что была война, принесшая такие страдания народам, особенно еврейскому; священник считал, что таким образом он лишит русских, утверждавших, что он не покаялся, козырной карты, и это, возможно, поможет его освобождению. В своей книге Габель писал, что тема уничтожения евреев всегда очень волновала Гесса, но он любил повторять, что сам к этому отношения не имеет. Сделать публичное заявление он отказывался, мотивируя это тем, что тюрьма не самое подходящее место для признания, которое должно быть абсолютно искренним и добровольным.
Позже, когда Габель снова затронул эту тему, Гесс решил прежде обдумать ответ. Потом он сказал, что нет нужды делать заявление в письменной форме; война и связанные с ней страдания и разруха всегда были источником его переживаний, а свою преданность делу мира он и так продемонстрировал 10 мая 1941 года.
Был ли это сознательный уход от ответственности, или же со временем он искренне поверил в это, неясно, во всяком случае, так утверждают его защитники, так говорит в своих книгах Вольф Рюдигер. Эта мысль неловко соседствует с его признанием полковнику Берду, что о плане «Барбаросса» он знал до полета; конечно, он не мог не знать о нем. Таким образом, напрашивается вывод, что он умер, так и не раскаявшись.
В 2.30 дня, то есть через двадцать минут после того, как он и Джордан спустились в сад, Джордан вернулся и доложил дежурившему французскому охраннику Одуану, что с его подопечным что-то случилось — во всяком случае об этом свидетельствует запись в регистрационном журнале: цифра «3» в числе «30» исправлена, но поверх какой цифры она написана, теперь не разобрать. Несомненно одно, что Джордан был встревожен. Вместе с Одуаном они спустились в сад, к небольшой постройке, известной под названием "летний домик", где лежал Гесс. Как он лежал и в каком состоянии, без данных отчетов и свидетельских показаний сказать нельзя, но Одуан тотчас начал мероприятия скорой медицинской помощи и, поскольку тюрьму в том месяце контролировала американская сторона, попытался связаться с американским комендантом, но безуспешно.