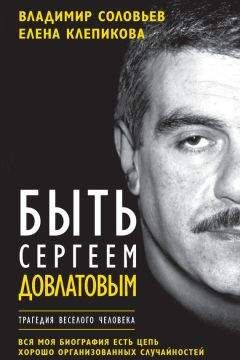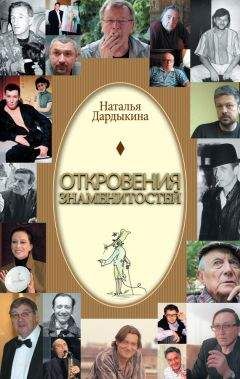Я бы хотел умереть, как дядюшка Джо: в дороге. Дядюшка Джо, однако, тоже был вынужден в конце концов ограничиться метафорой, сподобившись французскому гению, хотя и поневоле. Он решил замедлить бег времени и продлить себе жизнь, а потому отправился в кругосветное путешествие. Расчет был верным, потому что пространство растягивает время — тот, кто в пути, проживает несколько жизней по сравнению с тем, кто остается.
Надо же так случиться, что уже в Венеции, в самом начале кругосветного путешествия, дядюшку Джо хватил удар, и вот тогда он и решил путешествовать мысленно, раздвигая время и откладывая смерть, не выходя из дому. Он был достаточно богат, чтобы приобрести палаццо, в котором комнат было столько же, сколько недель в году. И вот каждую неделю упаковывались чемоданы и парализованного дядюшку Джо перевозили в следующую комнату. Оставшиеся ему несколько месяцев жизни этот побочный герой романа Грэма Грина растянул на несколько лет и умер счастливым человеком по пути из одной комнаты в другую.
Быть всюду — быть нигде.
Есть известная идишная притча про одного мешугге, которому обрыдли дом, жена, дети, вот он и отправился искать счастья на стороне. Ночь застала его в дороге, он устроился спать на земле, а чтобы не запутаться, поставил ботинки носками в том направлении, куда шел. Ночью был ветер и перевернул ботинки в обратную сторону. Наутро еврей продолжил свой путь. К вечеру приходит в местечко, похожее на его собственное, находит дом, из дома выбегает женщина, неотличимая от его жены, за нее цепляются дети, точь-в-точь его дети. Ну, еврей и решил остаться здесь. Но всю жизнь, до конца своих дней, тосковал по родному дому, который оставил. Чем не формула эмиграции? Или ностальгии?
Без комментов.
Фармацевтически я выровнял уровень холестерина в крови, нижнее и верхнее давления, биение пульса, работу желудка (как я мучился изжогами в российской моей юности!) и даже устранил (почти) нервные вспышки, сохранив творческие импульсы, — уж мы с моим психиатром бились путем проб и ошибок найти адекватное лекарство, чтобы я, с одной стороны, не лез в бутылку при каждой неурядице или когда просто что не по ноздре, а с другой, мой созидательный нерв продолжает функционировать, я творю, выдумываю, пробую бесперебойно на благо моей географической родины — вкалываю на Россию, в которой уже не был два десятилетия и вряд ли буду.
Не тянет что-то. Боюсь взаимного разочарования.
Тут ко мне пару дней назад на манхэттенской презентации моей книги подошла молодая поклонница и сказала: «Я вас представляла совсем другим» — и отвалила навсегда, провожаемая жадным взором автора-василиска: юная плоть, влажное междуножье и все такое прочее, о чем и говорить в мои далеко уже не вешние годы стыд: мимо. Это как Ницше выслал свою фотку датскому поклоннику и пропагандисту Георгу Брандесу, а тот, не скрывая раздражения, отписал, что автор «Заратустры» должен выглядеть совсем иначе. А еще на одном русскоязычнике передо мной присела девчушка на корточки, очень даже сексуально, и сказала, путая двух птиц — соловья с соколом, — что любит мои книги, особенно «Школу для дураков». Опять мимо. И, наконец, комплимент, который я не получал ни от одной женщины:
— Мне доставляет физическое удовольствие ваш язык!
— Умоляю, не рассказывайте мужу.
Что остается? Как говорит Д. Г. Лоуренс, визуальный флирт. Нет, не платоническая, а визуальная, виртуальная любовь. Что ж, с меня достаточно телепатических связей. Я кантуюсь не в Нью-Йорке, не в Москве, не в Питере, а внутри себя. Как Диоген — в пресловутой бочке, но только моя, увы, не в Древней Греции, а в современной звезднополосатой стране. В любом случае, с меня довольно самого себя. Уж коли помянул Ницше, моя любимая у него фраза:
Немногие мне нужны,
мне нужен один,
мне никто не нужен.
Стихи, а не философия. Кто их написал: Лермонтов или Гейне? Представляю, что их написал я, а Ницше совершил литературную покражу — с него станет. Все, что мне нравится в мировой литературе, написано на самом деле мной и является плагиатом. «Король Лир», «Книга Иова», «Царь Эдип», «Комедия» (не «человеческая», а «божественная»), Пушкин, Тютчев, Баратынский, Мандельштам, Пастернак и Бродский. Не целиком, но отдельные строки — безусловно, мои.
Да: литература как телепатия. Да: записка в бутылке, брошенной в океан. Стравинский: я пишу для самого себя и для моего alter ego. Меня несколько удивляет коммерческая товарность моих уединенных опусов, напрямую с их основными качествами не связанная, но исключительно с их боковым, а именно со скандалезностью, к которой, право слово, не стремлюсь, а токмо к самоудовлетворению (эпитет «творческому» опускаю). Если хотите, род литературного онанизма. Можно и этот эпитет опустить: «литературный». Онанизм он и есть онанизм: любой. Секс с собой любимым. А скандал есть нечто производное и незапланированное, на что я нарываюсь, сам того не желая. Меня еще в Москве называли «возмутитель спокойствия», а один коллега из березофилов выразился еще резче: «Клоп, ползающий по телу русской литературы».
Давно те времена канули в Лету, и мне теперь нужны лекарства, чтобы поддерживать жизненный и творческий тонус на прежнем уровне, а я все еще «мистер Скандал». Даже во времена всеобщей литературной дозволенности в России. А если я иначе — с эмбриона, с фетуса, со сперматозоида — устроен? Считать днем рождения день зачатия? Миша Фрейдлин, с его каламбурами и перефразами на все случаи жизни, сказал мне, что куда хуже, когда в своих руках член толще кажется. Мне — никогда. И… «О если бы я прямей возник!» — в отличие от Пастернака, у меня никогда такого желания не возникало — ни в каком смысле. Не хочу быть прямым, а тем более выпрямленным, но до самой смерти скособоченным — как зачат, как родился, как рос, как вырос. Вот в чем дело — в скособоченности, а не в скандальности и желтизне. Отвергаю попреки и комплименты мне критиков как неверные. Мои тексты — не скандальные, а резонансные. Парадоксальность, оксюморонность — это и есть внешность моей скособоченности. Пусть Лена Клепикова и говорит, что не все парадоксы парадоксальны: парадокс, достойный Честертона! Вступить в противоречие с самим собой — для меня без проблем. В противоречии с собой не вижу противоречия.
Вот история аленького цветочка. Точнее — аленького плодочка. Сам удивляюсь — как же так: я не узнал маракуйю, изысканный экзотический фрукт с маковыми зернышками в плодовой плоти. Вернувшись из Бирмы — Камбоджи — Таиланда, где ел ее каждое утро, предпочитая вонючему дуриану, искал ее потом повсюду в нашем куинсовском Китай-городе, показывая продавцам сорванную с йогурта этикетку, где она была изображена вместе с персиком, но в разрезе, да ее и не было еще тогда в китайских лавках, этой утонченной маракуйи, без которой мой рассказ Лене Клепиковой о путешествии был как-то не полон. Мне казалось, что достаточно показать ей маракуйю, дать вкусить этого странного плода, и она мгновенно ощутит всю сказочную прелесть нашего с сыном путешествия в Юго-Восточную Азию.