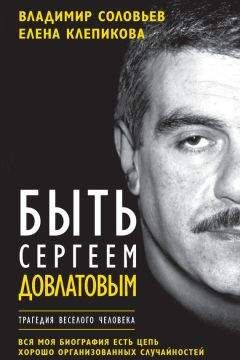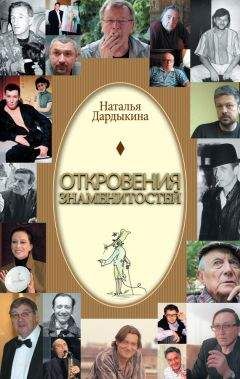Бродский и Довлатов на родину не ехали ни в какую — срабатывал инстинкт самосохранения. Несмотря на все усилия питерских ходоков заполучить этих литературных генералов себе в карман. Помню, как Сережа отговаривался, что сопьется там, а спился здесь, хотя погиб не от цирроза печени, а от разгильдяйства двух дебилов-санитаров «скорой помощи». А «так бы жил и жил»? Нет, к нему это по-любому не применимо, хотя его предки по обоим линиям — долгожители.
Ося, тот и вовсе не собирался на родину: «Я не представляю себя туристом в стране, где вырос и прожил тридцать два года. В России похоронено мое сердце, но в те места, где ты пережил любовь, не возвращаются». А со слов его московского друга Андрея Сергеева, устраивал проверку на вшивость питерских доброхотов и каждого спрашивал — ехать ему или не ехать?
Особенно усердствовал его заклятый друг Саша Кушнер, который стал притчей во языцех для тех, кто его знал: «сидит в танке и боится, что ему на голову свалится яблоко», «пьет бессмертие из десертной ложки» и прочие приставучие характеристики. Уж как он уламывал Бродского посетить Петербург: «Тут одной поездкой не отделаешься…» Бродскому осталось жить всего ничего после неудачной операции на сердце, а Кушнер донимал его и портил жизнь. Сначала выклянчил у него вступительное слово на своем нью-йоркском вечере, готовя которое Бродский сказал Андрею Сергееву: «Посредственный человек, посредственный стихотворец», а перенося на Кушнера хрестоматийную характеристику Сталина Троцким, — «самая выдающаяся посредственность русской поэзии». Потом выцыганил это вступительное слово в письменном виде — в качестве то ли индульгенции, то ли пропуска в бессмертие — и поставил предисловием к своей книге. Громадный Довлатов был у них на посылках, на побегушках. Сережа потом рассказывал мне, что «никогда не видел Иосифа таким разъяренным», как тогда, когда Бродский вручил ему текст для передачи Кушнеру, только чтобы самому с ним не встречаться. Но потом не выдержал и опроверг это вынужденное вступительное слово убийственным стихотворением. Нет худа без добра: попрошай, вымогатель и юзер Кушнер послужил ему пусть негативным, отрицательным, но вдохновением:
Не надо обо мне. Не надо ни о ком.
Заботься о себе, о всаднице матраса.
Я был не лишним ртом, но лишним языком,
подспудным грызуном словарного запаса.
Теперь в твоих глазах амбарного кота,
хранившего зерно от порчи и урона,
читается печаль, дремавшая тогда,
когда за мной гналась секира фараона.
С чего бы это вдруг? Серебряный висок?
Оскомина во рту от сладостей восточных?
Потусторонний звук? Но то шуршит песок,
пустыни талисман, в моих часах песочных.
Помол его жесток, крупицы — тяжелы,
и кости в нем белей, чем просто перемыты.
Но лучше грызть его, чем губы от жары
облизывать в тени осевшей пирамиды.
Не хило! Эти строфы — результат внимательного чтения «Трех евреев», стихотворное резюме моего докуромана. Вплоть до прямых совпадений. То, для чего мне понадобилось триста страниц, Бродский изложил в шестнадцати строчках. Боль, обида, гнев, брезгливость — вот эмоциональный замес, послуживший импульсом этого стихотворения, в котором ИБ объявляет Кушнера своим заклятым врагом. Как и было по жизни.
Когда-то, еще в Питере, Бродский сочинил шутливо-патетический стишок «На Васильевский остров я приду умирать», а уже здесь, в Нью-Йорке, Довлатов спародировал его до полного абсурда: «Где живет, не знаю, а умирать ходит на Васильевский остров». А шутил ли Бродский, когда написал:
Хотя бесчувственному телу
равно повсюду истлевать,
лишенное родимой глины,
оно в аллювии долины
Ломбардской гнить не прочь. Понеже
свой континент и черви те же.
Шутя говорил всерьез, коли признавался: «Если существует перевоплощение, я хотел бы свою следующую жизнь прожить в Венеции, быть там кошкой, чем угодно, даже крысой, но обязательно в Венеции». В конце концов своего добился: лежит на острове мертвых — Сан-Микеле.
А Довлатов лежит здесь у нас, в Куинсе, спальном районе Нью-Йорка. Как был при жизни Сережи его соседом, так, переехав, стал соседом покойника и прохожу или проезжаю мимо еврейского кладбища Mount Hebron с гостеприимно, как на кладбищенской картине Шагала, открытыми воротами, где на участке 9, секция Н (латинское) захоронен Сережа, полукровка, — прохожу и окликаю его. В ответ ни гугу. Лена Довлатова говорит, что звать надо громче, Сережа и при жизни был туговат на ухо, вдова уже не помнит на какое, а Лена Клепикова, та вообще считает мои оклики кощунством, но постепенно привыкла. Или это я не слышу Сережу, а он кричит, надрывает горло?
Но не найдет отзыва тот глагол,
Что страстное земное перешел.
Я так и назвал свой двухчасовой фильм о нем — «Мой сосед Сережа Довлатов», хотя точнее было бы назвать «Мой друг Сережа Довлатов». Я начал этот фильм с его могилы и развернул сюжет ретроспективно: от трагической смерти к трагической жизни. С тех пор иммигрантский район, где Сережу знал каждый, неузнаваемо этнически изменился — вместо от Москвы до самых до окраин здесь теперь поселились «граждане Востока» — бухарские евреи, которые не знают Довлатова, а он даже не подозревал об их существовании. Я уже об этом писал.
Недавно, в канун очередной годовщины Довлатова, я был на одном гульбище в ресторане «Эмералд» на Куинс-бульваре, недалеко от дома, где он когда-то жил и откуда видно кладбище, где похоронен, — теперь в этом доме живут его вдова Лена и его дети — Катя и Коля. Среди присутствующих на нашей встрече были состарившиеся знакомые Сережи и даже герои его мнимодокументальной прозы и записных книжек (в том числе неоднократно им и мною упомянутые Соломон и Изя Шапиро). Не уверен, что Сережа узнал бы нас, да и мы самих себя — тогдашние теперешних — вряд ли.
Я принадлежу к промежуточному поколению, которого на самом деле нет. Родился во время войны, к концу школы остался только один класс моих однолеток, и Лена оказалась в одном со мной. Какое счастье и какая мука было видеть ее каждый день! Так я вижу ее каждый день с тех пор, как мы женаты: праздник, который всегда со мной. Теперь здесь, в Нью-Йорке, у меня появилась своя мишпуха, моего поколения, а то на несколько или дюжину лет моложе (есть одна, что и вовсе годится в дочери), но — другая жизнь и берег дальний:
Здесь мои приятели,
Там — мои друзья.
Даже враги, и те уже все — там. Потерять врага хуже, чем друга. Я тоскую по своим врагам безутешно. Правда, появляются новые, молодые, энергичные. У меня редкий талант — плодить себе врагов.