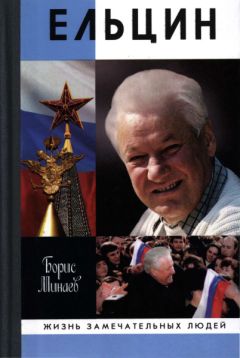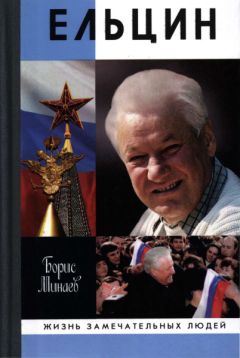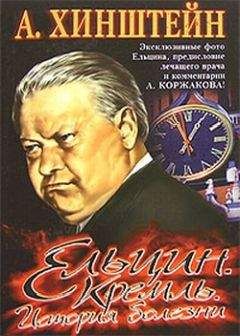С одной стороны, эти аргументы вполне понятны. Государственное православие — вещь обоюдоострая.
Но с другой… Куда же и пойти русскому человеку, если не в церковь, когда на душе такая смутная тревога, когда каждый день как сражение, как последняя битва и когда вдобавок ко всему еще и болеет старенькая мать?
Ельцин был первым руководителем государства, после советского периода, который публично признал роль церкви в духовной жизни страны, и это шаг, сопоставимый со всеми остальными его значимыми шагами тех лет — свободой слова, свободой частной собственности, политической свободой. Что бы ни говорили, этих свобод у русского человека уже не отнять.
Так что стоять в церкви со свечкой — ему было, на мой взгляд, совсем не зазорно.
Существует немало исторических анекдотов на эту тему. Якобы во время первого стояния на пасхальной службе Наина Иосифовна шепнула ему: «Боря, перекрестись!» — «Неудобно, люди смотрят», — ответил он. Больше Наина Иосифовна креститься не просила.
Тогда же, во время Пасхи 1993 года, пришел к нему брать интервью для телевидения кинорежиссер Эльдар Рязанов. Ельцин задумчиво сидел на кухне, в своей квартире у Белорусского, перед ним горкой лежали крашеные яйца. Во время разговора он взял одно из них и стукнул об стол. Разговляться, как известно, можно только после Пасхи. Наина и дочери ахнули: ты что? Тарелку с яйцами тут же унесли. Принесли вместо нее тарелку горячих котлет. Пост он, конечно, тоже не соблюдал.
…Иногда они сидели с матерью на кухне, подолгу тихо разговаривали.
Она что-что спрашивала. А как вот этот, а как тот… Ей было интересно то, «чего не говорят по телевизору». Иногда просто молчала, глядя на него.
В документальном фильме Александра Сокурова Ельцин скажет об этом проникновенные, наполненные любовью и болью слова: «Так смотрит, смотрит подолгу…»
Вообще все эти месяцы — декабрь 1992-го, январь, февраль, март 1993-го — были для него каждый равен году, а то и двум. Такая в них тревога, такие события. А потом наступил последний, самый тяжелый день.
Вот что он напишет об этом в «Записках президента»:
«Мама умерла в половине одиннадцатого утра. Это было в воскресенье.
Накануне вечером 20 марта она сидела, смотрела телевизор вместе со всей семьей. Смотрела мое заявление о введении особого положения (особого порядка управления, если говорить точно. — Б. М.). Подошла, поцеловала и сказала: “Молодец, Боря”. И ушла к себе.
В воскресенье открылась чрезвычайная сессия Верховного Совета, на площадях Москвы состоялись митинги “ДемРоссии” и коммунистов. Я занимался всеми этими делами, готовил дальнейшие шаги, получал информацию с сессии, постоянно звонил силовикам, Черномырдину…
В середине дня мне в первый раз сообщили, что маме плохо, я сказал: “Что же вы медлите? Надо везти в больницу”. Мне ответили: врачи занимаются, вызвали “скорую”. Я немного успокоился.
Прилег, потому что был уже на пределе, ночь прошла без сна. Да и перед этим накопилось… Мама меня очень беспокоила, я несколько раз спрашивал, как она, но мне не сообщали, говорили: она в больнице. Надо же, и я не почувствовал, что это все, конец. Все мысли были заняты этим проклятым съездом.
Вечером ко мне приехали члены правительства, человек семь, и все уже знали. Не знал один я. Вот такие собрали большие силы. Видно, очень боялись моей реакции…
Помню, что я попросил всех выйти…
Все, мамы больше нет.
Почему именно в этот день? Какой-то знак, что ли?..
Она умерла тихо, безболезненно, во сне, не меняя позы. Так врачи мне сказали…
Было отпевание. Маму похоронили на Кунцевском кладбище в Москве».
В этом коротком тексте, конечно, слишком много политики, слишком много неостывшей страсти тех дней, когда шла большая, отчаянная драка.
Но так уж случилось, что именно эта неделя, начиная со дня смерти Клавдии Васильевны — 21 марта и по 28-е, — стала переломной, именно с этого момента он перестал проигрывать съезду и начал выигрывать, медленно, постепенно, иногда теряя очки, но шаг за шагом идя к своей цели.
И дело тут, я думаю, не в мистике. Смерть матери обострила до предела все чувства Ельцина.
…В отличие от отца Клавдия Васильевна почти не меняла своих привычек. И не только в смысле набожности. Но что, в сущности, известно нам о ее жизни? Очень мало.
Она «с детства научилась шить». «Обшивала всех — кому надо юбку, кому платье, то родным, то соседям». Дочь уральского крестьянина, она сама выучилась грамоте, умела читать и писать. Была красавицей. С толстой русой косой до пояса. С фотографии глядит ее круглое, доверчивое молодое лицо. Вышла замуж в восемнадцать лет, явно по любви. За такого же деревенского красавца. Выходить замуж от бедности нужды не было — семья печника и плотника Старыгина была основательной, крепкой. С мужем прожила до самой его смерти.
Может быть, благодаря этому детскому, наивному крестьянскому счастью в начале жизни она и выдержала всё.
И еще благодаря своей огромной энергии, воле к жизни.
Годы раскулачивания. Страшные, темные годы.
Эти годы в Казани, когда она осталась с Борей без средств к существованию после ареста Николая и Андриана. Хотела устроиться швеей, не взяли. Думала: да, вот здесь, на улице будет просить милостыню, а мальчик будет тихо умирать у нее на руках, ходила к тюрьме, потерянная, ни на что не надеясь…
И, наконец, послевоенные годы в бараке, в Березниках. Длинный коридор, в который выходило 20 комнат — по одной на семью. Позади барака находились дощатый туалет и колодец…
Это был жестокий мир. Мужья били жен. Старшие дети били младших. Чтобы не пропасть, здесь надо было уметь вовремя дать сдачи.
Сам Б. Н. напишет об этом барачном времени так:
«Просуществовали мы таким образом в бараке десять лет. Как это ни странно, но народ в таких трудных условиях был как-то дружен… То ли именины, то ли свадьба, то ли еще что-нибудь, заводили патефон, пластинок было 2–3, как сейчас помню… пел весь барак. Ссоры, разговоры, скандалы, секреты, смех — весь барак слышит, все всё знают» («Исповедь на заданную тему»).
«Постоянно хочется есть. 2, 3, 5, 10, 15 лет — все время голод, голод, голод. Представьте себе, когда мама нарезает маленькие такие, в полпальца, кусочки хлеба, тоненькие-тоненькие, каждому делит… на всех членов семьи — нас 5 человек. Раздает и, конечно, себе оставляет самый маленький кусочек. Вот это у меня прежде всего в детстве. И больше всего это именно запомнилось», — говорит он в своем интервью.
В голодные военные годы они купили козу. Спали зимой на полу, в обнимку с козой, все вчетвером — мать, отец, они с братом. Коза «была как печка», она грела. Она давала молоко. Она была их спасением, их жизнью. В 1944-м, страшном военном году, родилась сестра Валя. Как мать все это вынесла?