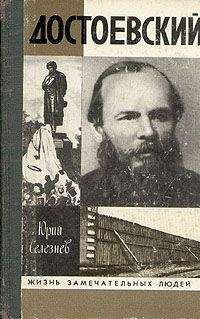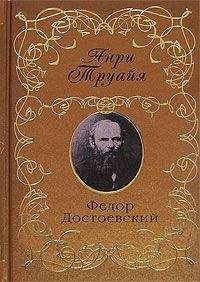Достоевский чувствовал, что и в новом романе от памфлетной злобы дня, от вопросов, которые волнуют современное ему общество, он все более переходит за черту, в область — как выразился, и прекрасно выразился, Михаил Евграфович — «предведений и предчувствий». Да, в «Бесах» ему хотелось высказаться до конца, и не памфлетно, но так, как умели же высказываться в древних Откровениях... Так, чтобы не навязывать ответ, но чтобы он как бы сам родился в сознании читателей. Как это говорится и в народе: «Сказанное слово — серебряное, несказанное — золотое». Не оттого ли у Пушкина «народ безмолвствует»? Только бы достало таланту воплотить такое не сказанное еще народом, но уже предчувствуемое, предвидимое им, писателем, народное слово. «Бесам», казалось теперь, не только конца не предвидится, но, может быть, сейчас только они и зачинаются. А тут еще столько новых хлопот, правда, приятных, — решили снять дачу и где-нибудь подальше от Петербурга, чтоб хотя на лето укрыться от кредиторов да от городской суеты. Михаил Иванович Владиславлев — муж одной из племянниц Достоевского (философ-«прогрессист» и страшный либерал!) — присоветовал Старую Руссу, что в Новгородской губернии. Действительно, далековато, но место чудное: Федор Михайлович съездил, поглядел, размечтался и уж договорился снять домик на лето у местного священника Ивана Ивановича Румянцева. Решили отправиться туда всем семейством в мае нынешнего, 72-го года.
А на днях Достоевский получил письмо от уже становящегося знаменитым собирателя русской живописи Павла Михайловича Третьякова — просит попозировать художнику Перову. Времени, конечно, в обрез, да и видеть свое изображение на выставках или тем более увековеченным для памяти потомков? — этим его не соблазнишь. Но и отказать такому человеку, как Павел Михайлович, как-то совестно: удивительный человек, великий подвижник, патриот. На людях такой вот закваски, кажется, и стояла всегда русская земля. И то: вроде бы чего еще — купец, хоть и не миллионщик, но не беден — ну и живи себе в свое пузо, наращивай тыщи, пользуйся радостями жизни, пока жив и деньги есть. На культуру потянуло? Искусства захотелось? — ну так и потребляй чего душа желает. Нет, тут не меценатство на уме — решил собрать национальную картинную галерею не для личного услаждения — для Отечества. И художники поверили в него: отдавать ему лучшие свои полотна за честь почитают. Да что там — многие просто погибли бы в безденежье и безвестности, не будь Павла Михайловича. Теперь вот задумал создать целую портретную галерею лучших людей России, самых талантливых художников уговаривает, подталкивает, убеждает. Значит, и его, Достоевского, ценит, коли просит согласиться на портрет43. Да и сам Перов любезен душе Федора Михайловича — «Похороны крестьянина», явно вдохновленные некрасовской поэмой «Мороз, Красный нос», «Приезд гувернантки», удивительные его «Птицеловы», а какие крестьянские характеры! Один только «Странник» его как много говорит сердцу. Ну а портретист — бесподобный: Островский у него — на века, таким и будет жить в памяти людской.
Василий Григорьевич Перов оказался еще и превосходным собеседником: человек умный, мыслящий, он умел разговорить Достоевского. Федор Михайлович убедил Перова взяться и за портрет Аполлона Николаевича Майкова. Павел Михайлович с радостью поддержал его, так что Перов писал одновременно оба портрета: все равно позировать более двух часов в день Федор Михайлович не выдерживал. Сумел он убедить и Василия Григорьевича и Павла Михайловича непременно добиться согласия Тютчева позировать для портрета. К сожалению, эти хлопоты оказались тщетными: Федор Иванович тяжело заболел и никого к себе уже не допускал.
К середине мая работа над портретом в основном завершилась, и Достоевские отправились наконец в Старую Руссу.
Из Петербурга Николаевской дорогой добирались до Чудова, там пересадка на узкоколейку до Новгорода. Затем на пароходике, со странным названием «Алис», по Волхову — мимо Новгородского кремля с его чудной златоглавой Софией, вдоль по всему Ильменю — в речку Ловать, из нее — в извилистую Полисть, а уж на ней-то и сама Старая Русса, в центре которой Полисть сливается с еще двумя речонками — Перерытицей и Порусью, или, как ее еще зовут здесь, Малашкой. Через городок пролегает большой скотопрогонный тракт, главный рынок здесь тоже скотный, так что, как пошучивают старожилы, во время ярмарок Старая Русса превращается в настоящий «скотопригоньевск».
Липовой аллеей двинулись на Пятницкую, к домику, который должен был сделаться их пристанищем на все лето. Здесь уже ждал их хозяин — Иван Иванович Румянцев — человек, как вскоре выяснилось, острого ума; отличаясь явной незаурядностью натуры, он во всю жизнь свою так и не достиг никакого продвижения в своей духовной карьере. Домик, конечно, не ахти что, ну да не до жиру, быть бы живу, как говорится: у Тургенева виллы в Европе, у Толстого вотчина наследственная в Ясной Поляне, господа издатели им по 500 рублей за лист оплачивают, а ему, Достоевскому, вечному скитальцу, бездомному пролетарию (не то, что виллы — квартиры даже своей и то во всю жизнь не заимел), — и по 150 приходится соглашаться. Эх, разбогатеть бы наконец, что ли, да и купить бы маленький домик, хотя бы и здесь, в Старой Руссе, — все подешевле, пусть бы и плохонький был, да все-таки свой: никто не томил бы душу, не приходилось бы вечно переезжать с квартиры на квартиру...
Только обжились, самое бы время за «Бесов» приняться, но разве у него может быть так, чтоб, если уж хорошо, значит, и хорошо. Нет, коли уж в чем-нибудь хорошо — жди беды; будто и нельзя совсем, не позволено кем-то, чтоб ему хорошо было... Неугомонная — ей уже два с половиной годика — Лиля (так звали они свою Любочку) сильно ушибла ручку еще в Петербурге. Ничего недоброго врачи не заподозрили, но ручка стала вдруг пухнуть. Обратились к Шенку, старорусскому полковому врачу, и тот определил: был перелом, косточки срослись неправильно, если не сделать операцию — ручка высохнет. Пришлось срочно возвращаться в Петербург.
Анну Григорьевну и Федора Михайловича хирург выдворил, не позволил присутствовать при операции; остался лишь Аполлон Николаевич, крестный ее. Что пережили, пока ждали, и не расскажешь: шутка ли — за стеной ломают косточки родному ребеночку, чтобы заново правильно срастались. Но операция прошла благополучно.
Собрались было назад, в Старую Руссу, а тут известие: тяжело заболела мать Анны Григорьевны; еще через несколько дней пришла весть о смерти Аниной сестры, Марии Григорьевны. Только что вернулись наконец в Руссу — слегла внезапно с тяжелым нарывом в горле и сама Анна Григорьевна. Шенк, вновь приглашенный для консультации, с прямотой военного человека не скрыл: если в течение суток нарыв не прорвется, за жизнь Анны Григорьевны он не ручается. Федор Михайлович чуть не рыдал — такое отчаяние нашло: неужто потеряет Аню? Если уж в чем повезло ему в жизни, непозволительно повезло, так это с женой. Да и жена ли она ему только, эта женщина? И мать она ему, и нянька — больному да нервному, да не с медовым характером — и успокоит, и утешит, и не попрекнет никогда укором, и сотрудница его — стенографирует и начисто переписывает; и читатель его первый — по ней проверяет, удались ли сцены? Но и не в этом дело: чем дольше жил с ней, тем больше любил ее, да и не то что любил — влюблялся в нее, в мать своих двоих детей... И ревновал, бывало, особенно в разлуках, пусть и недолгих; почудится вдруг: мол, по старому мужу молодая жена не заскучает. А вернется, увидит ее, услышит ее смех, и уж никто не пошатнет его веру: вот единственное его надежное, неизменное прибежище в этом ненадежном, изменчивом мире.