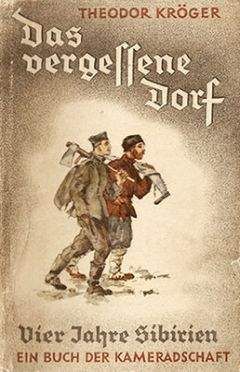Со всех наших последних сил мы раскидали сено по поверхности, так как мы знали, что животные изголодались. Вскоре после этого мы подкрались к стаду, распределялись широким кругом, и начали их загонять. Последовал беглый огонь из ружей, уже больше напоминавший пулеметный, наша поспешность была велика, а страх, что олени могли бы ускользнуть от нас, был еще больше. Наша добыча была огромной. Мы подстрелили почти тридцать животных.
Наше мужество и наша уверенность сильно возросли!
Мы день ото дня все больше удивлялись, что ни один крестьянин из окрестностей не приезжал к нам в Никитино, хотя становилось все теплее. Мы сами не могли решаться на марш продолжительностью в несколько дней, потому что у нас не было сил, лошадей, а погода еще не настолько установилась, чтобы идти на такие далекие расстояния пешком. Еще мы знали, что все непосредственно граничащие с Никитино деревни уже давно были пусты. Их постигла та же судьба, что и Никитино. Мы должны были ждать.
Пулемет лает!...
Мы вскакиваем, хватаем винтовки и патронные ленты, складываем патроны в карманы...
Стреляет малокалиберная пушка... снова трещит пулемет.
Мы осторожно высматриваем за окна.
Броневик! Пулемет в его башне ощупывает окрестности. За ним стоит примерно тридцать полностью загруженных телег и еще один броневик.
Люк первой бронемашины открывается, огромный мужик высматривает оттуда и кричит из всех сил:
- Мы не хотим убивать!... Мы привезли вам еду!
Я раскрываю дверь, выбегаю наружу, и, кажется, что я сойду с ума от радости.
- Степан!... Степан!... Степан!.
- Немец! Ну, молодец! Наконец-то я нашел тебя! И по широкому лицу моего уже давно забытого друга тюремных дней скользит спокойная улыбка. Как ребенок он обнимает меня, неловко гладит мою голову и снова и снова прижимает меня к себе.
- Ты с ума сошел, дружище? Неужели ты действительно свихнулся, во имя спасителя? Почему ты ревешь как баба? Ты должен радоваться, мой дорогой... И он трет рукавом по снаряженной патронной ленте, на которой висят мои слезы.
Все же, внезапно его глубокий, широкий голос замолкает. Вокруг нас собираются мои товарищи, немногие, самые последние.
- Вас забыли...? – внезапно тихо спрашивает он. Огромная меховая шапка падает с его головы, и он крестится.
- Всех...? И он оглядывается и молчит.
Из броневика появляются люди, и по их военным шинелям я догадываюсь, что это бывшие офицеры. На них крест-накрест пулеметные ленты, еще такая же лента на поясе, по бокам у каждого два револьвера
Степан тоже так вооружен. Из телег тоже спрыгивают люди. На одних из них армейские шинели, на других трудноопределимая гражданская одежда.
- Они все-таки освободили меня из проклятой тюрьмы, – говорит Степан мрачно.
- Это был я! – говорю я с детской радостью.
- Я тоже так подумал: ,твой немец все же добился этого’. Я был и на фронте, когда он рухнул. Потом я был у тебя в Петербурге, мне сказали, что ты здесь, сказали, что и моя жена тоже у тебя... Она еще жива...? – произносит он внезапно и боязливо.
- Да, Степан! Они и оба ее ребенка живы! Ты можешь забрать их, они в деревне, в трех днях пути отсюда.
- Я приехал в Омск, хотел дальше к тебе. Железнодорожное сообщение было прервано, мне сказали, от вас уже больше четырех месяцев не было никакой весточки, и вы, конечно, все умерли от голода. На вокзале в Омске стоял целый поезд боеприпасов, он попал большевикам в руки. Вокруг него всегда бродили какие-то фигуры, и когда я поймал одного из них, тот сказал мне, что это бывшие «белые офицеры», которые хотели сбежать. Мы договорились, нас было триста человек и даже больше, захватили силой двух машинистов, и уехали на свободу ночью. По дороге мы раскрыли вагоны. Они были полны забитым скотом, консервами, лошадьми, живым скотом, боеприпасами, легкими и тяжелыми пулеметами и горами боеприпасов. В пассажирском вагоне мы даже нашли четыре полных мешка с царскими деньгами и «керенками». По дороге мы установили пулеметы, и всюду, где мы не могли проехать, мы косили все, что становилось нам на пути. Вот и на вокзале в Перми тоже не осталось больше никого из красных. Голодающие набрасывались на нас как дикие звери. Также и на конечной станции Ивдель у нас было много неприятностей с местными жителями. Они не доверяли нам, немногочисленные люди. Там было самое большее сорок парней. Они даже обстреливали наш поезд. Наконец, мы сгрузили оба броневика с платформ, скот и лошадей мы кормили по дороге, потом мы запрягли их, загрузили повозки продуктами , и теперь – вот мы здесь!
- Степан... у нас всех голод... дай нам еды... Мы хотим есть.
Снежные горы таяли. Река выходила из берегов. Широкие площади полей под паром и лесов глубоко ушли под воду. Перелетные птицы возвращались.
Вода спадала. Люди приезжали в Никитино.
Бесконечные ряды гробов, глубокие ямы, люди, которые ничего не делали, кроме того, что хоронили других. Церковные колокола, молчавшие месяцами, звенели.
С Колькой вернулась из Забытого Фаиме, с ней наш ребенок, Маруся и Бродяга, мой пес. Я долго боялся Фаиме, потому что она была для меня воспоминанием о жизни, о которой я едва ли мог вспоминать и думать. Я страшился, когда она звала меня, называла мое имя, касалась меня. Наш сын боялся меня.
Также и «другие», «немногие», так называли нас, бесцельно бродили по улицам.
Изо дня в день ужас извлекали из изб и церквей и хоронили. Ненасытные волки несли его из леса. Много изб пустовали. Двери были только прислонены, каждый мог войти, но никто не делал этого, потому что в пустых комнатах еще жил и дышал едва ли умолкший ужас.
Наступил день, который лишил меня последнего.
Моя жена и мой ребенок были убиты.
Та же самая зверская рука принесла смерть и моему Бродяге. Визжа он приполз ко мне. В его глазах еще стояла непоколебимая верность, с которой он защищал свою хозяйку и ее ребенка. Он ждал только лишь моего прихода.
И когда я поднимаю голову, снова светло... и знакомые предметы, кровать, стол, стулья, шкаф, толпятся вокруг меня как боязливые дети вокруг тихой, молчаливой, умирающей матери.
И когда я боязливо прислушиваюсь к себе, проникает в как раз еще широко, широко открытую душу жестокая, непобедимая боль, которая, как внушающее страх чудовище, бросается на меня. Чудовище въедается глубоко, вплоть до самых скрытых углов, оно выедает как раз еще ликующую, светлую душу навсегда из тела и удаляется наружу, как вор в темную ночь, и в ночи, которая лежит над монотонностью вечной Сибири, оно беззвучно тает навсегда. Оно даже не оставляет доставляющую боль пустоту, только бесчувственное, выгоревшее Ничто.