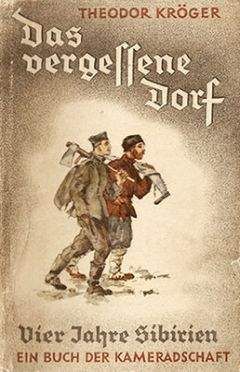Зеркало на стене смотрит боязливо на меня.
Оно больше не может там висеть. В нем отражалось когда-то изображение моей жены, моего ребенка.
Я беру его в обе руки и... большие, горящие глаза смотрят на меня... спрашивают меня...
«... Что теперь...?»
Я кладу его на мягкую кровать, и рука задевает подушку... там лежит ее голова. Там я сижу на корточках, пока не вскакиваю испуганно, и ночь пристально смотрит на меня через окна.
«... Что теперь...?»
«Наган», он блестит так соблазнительно, настолько удобно он лежит в руке. Барабан полон... замок щелкает.
Ночь пристально смотрит на меня... почему?
Верующая рука моей жены когда-то снова зажгла угасшую лампаду перед иконой. Священный свет... как если бы бородатый лик святого мне улыбалался.
«Ты старый, ухмыляющийся идиот!»
Тяжелый «наган» гремит, как пушка, пули пронзают лик на иконе..., но улыбка остается. Удар кулаком, второй, третий; разрушенный идол лежит у моих ног, и они растаптывают его полностью, улыбку, тупую ухмылку.
«Наган» поднесен к виску, пружина щелкает... Я откидываю барабан... пусто!... Ошибся при счете!...
- Великий Боже!
Как сатана вздрагивает от святого креста, так и я внезапно сгибаюсь, услышав эти слова.
- Великий Боже! Прости и благослови его!
В двери стоит Маруся, в сложенных руках маленький серебряный нательный крест с ее груди, который сверкает в свете утра.
В одиночку стоял я в траурном карауле у моей жены, у моего ребенка.
Один... один до конца этой жизни.
Когда утро зарозовело в третий раз, я положил нашего ребенка моей жене в руки, уложил обоих в мягкий мех и вынес их из дома. На березовом лугу, по которому весна уже рассыпала самые первые цветы, я опустил их на землю под деревьями.
Степан стоял там с лопатой и самодельным крестом.
Он был великаном, внешне, в копании и... в молчании.
И лопата врезалась в едва проснувшуюся землю и зарывалась глубоко.
Маленький холм, простой, безымянный крест... Березы окружают его. Они всегда будут окружать его, даже когда меня самого уже не будет.
Вплоть до глубокой ночи, до рассвета я боролся с самим собой.
Я хотел вскопать землю.
- Я хочу пить..
- Он говорит!
И при этих произнесенным шепотом словах я проснулся в своей комнате. Полный стакан стоял на столе, и я выпил его до дна одним глотком – это была водка.
И я начал пить.
- Игнатьев убил твою жену и твоего ребенка. Теперь он на конюшне, связанный. Мне убить его?
- Нет, Степан! Предоставь его мне. Но сначала я хочу выпить... Теперь у меня так много времени. Что мне делать со временем? Давай, выпей со мной, все же, выпей, Степан, ты не хочешь?
Я пил, и становился пьяной скотиной.
Игнатьев вернулся. Освобожденный из тюрьмы декретом Керенского со всеми другими преступниками, он приехал, чтобы отомстить. Однажды он уже попробовал это. Теперь это ему удалось. И Степан тоже прибыл слишком поздно...
Я снова пошел на конюшню.
Игнатьев кричит, когда снова видит меня. Его крик – это избавление для моей души, потому что я, я больше не могу кричать.
Степан пытается удерживать меня своими добродушными лапами.
- Ты же все-таки богобоязненный человек, это грех – так мучить божье творение. Будь милосерден...
- Почему ты снова и снова пытаешься помешать мне? Ты ведь знаешь, что он причинил мне. Он жил только мыслями о мести. Сотни километров прошел он, чтобы совершить это убийство.
- Но будь милосерден, Федя! Ради твоего Бога!
- Почему? У меня больше его нет!
Появились волки.
Я вытащил Игнатьева... только после нескольких дней... из конюшни и потащил... проклятого... в лес.
Транспортную колонну разгрузили полностью. Дни ужасов были уже почти забыты. Крестьяне снова пошли на поля и засеивали землю. Те, которым дальнейшая жизнь в многочисленных опустевших избах в Никитино показалась лучшей, чем в их старых, поселились в них и продолжали там жить.
Планомерно, как когда-то предписал мой приятель Зальцер, жители Забытое вместе таскали все всевозможное из Никитино. Они брали все, что им было нужно, так как это не стоило им денег; большая часть имущества была бесхозной. Полностью загрузившись, тащились они по широким просторам.
Длинный ряд деревянных крестов, выстроенных в ряд как солдаты, так лежали погребенными мои товарищи в сибирской земле. С холма они смотрели далеко за стену леса – на свою далекую родину.
Колонна последних военнопленных выглядела готовой к походу. Она ждала меня, но я остался. Я видел, как они исчезают вдали, куда мы смотрели так часто, куда мы уже так долго хотели пойти, туда, где всегда садилось солнце.
Я в будущем увидел снова только одного из них, другие пропали навсегда.
Так было предопределено им: они не должны были вновь увидеть свою родину.
Пришло лето 1919 года.
Я пил все дальше.
Брать в свои руки плуг, сеять зерно, пожинать урожай – для этого мои руки были слишком сильно осквернены мной самим, они были нечисты, посевы не поднялись бы.
Помогать людям – мои руки были слишком усталыми.
Родина, ради которой мы стояли в дали со сжатыми от бессилия кулаками, ради которой мы когда-то работали, позволяли себя унижать, бить и мучить, которую мы когда-то любили – она была абстрактным понятием. Я уже забыл ее звуки. Пурга развеяла их.
И все же, однажды я без всякого плана вывел моего «Кольку» из конюшни, запряг его и молча пожал все руки, которые охраняли меня, подбадривали и спасли мне жизнь. Эти руки долго крестили меня.
Я уходил такой же, каким пришел. Я оставил все, все, я взял с собой только мою печаль и мою пустоту, ничего более.
Изо дня в день я ехал по далекой, беспредельной стране. Колька, моя верная, косматая лошадка, неутомимо шла рысью все дальше и дальше. Насколько смешным это было. Зачем я вообще ехал, и куда? Дальше... дальше... дальше... Где-то должен был быть конец. Где-то закончится дорога, на которую я вступил со дня моего рождения.
Пермь. На вокзале, где стояло много повозок, я привязал Колку.
Я спросил о следующем поезде.
- Дня через три-четыре, но точно никто не знает, – был безразличный ответ.
В зале ожидания, как всюду по всей стране, сомнительные типы. Они были вооружены, стояли вокруг, чего-то ждали, обсуждали.
Я нашел для себя отдаленный угол поблизости от окна, откуда я мог рассматривать беспокойную жизнь и происходящее на перроне. Я ел, я пил, и снова пил. Я смотрел на людей, но я не видел их. Я был обузой для себя самого. Я пил все больше, напивался и чувствовал отвращение к самому себе.