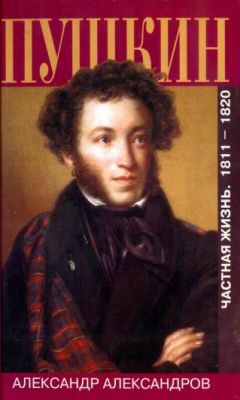В гостиной оставшиеся девицы, поджидая возможных гостей, пили кофей, одна из них играла на рояле, двое на скрипках.
Саша Пушкин гонял по номеру свою охтенку. Он обнимал ее и шептал ей нескромные слова, а охтенка утыкалась лицом ему в плечо, и от нее пахло молоком, как и должно пахнуть от всех охтенок. Этот запах пока не перебили ни пудра, ни духи. У нее был замечательный говорок, и он все дразнил ее:
— Скажи «ноченька»!
— Ноценька.
— Вот у нас сейчас ноценька. А теперь скажи «печка»!
— Пецька.
— А вот это у нас пецька! — Он запустил ей руку между ног, засунул палец.
— Ой, барин, ой! Ой! Потише, пецька горит…
— Вижу!
— Жжет, барин!
Пущин слышал за стеной голос своего друга Пушкина, все было так привычно, как и в Лицее, только он отмахивал ритмично свою Елизавету, осязая и руками и похотливым взором ее белое тело, и, раскачиваясь, думал:
— Женюсь! Же-нюсь! Же-нюсь! Это — справедливо! Это — возвышенно! Наконец, честно! Какая жопа! Сейчас умру!
Про Есакова все забыли. Он провел целый вечер в обществе нескольких свободных воспитанниц, которые ему пели и играли на скрипках, до неприличия нализался шампанским и уснул прямо в гостиной на диване. Когда ночью все снова собрались внизу за столом, отмечая историческое для некоторых событие, его даже не стали будить.
Заказали vin de la comète, шампанского урожая 1811 года. Когда открывали первую бутылку, Пушкин поднял с полу вылетевшую пробку. На внутренней ее стороне был чернильный штемпель кометы. Он вспомнил про комету, как летела она в тот вечер, когда открывался Лицей. Грусть набежала на его чело, но он согнал ее и продолжал веселиться вместе с другими.
Он прочитал стихи «К портрету Каверина». Каверин остался доволен, только попросил изменить неприличные строки.
— Какие ж? — рассмеялся Пушкин, будто не понимая.
— Вот эти: «В борделе он ебака». Оно, конечно, правда: я и рубака, и ебака изрядный, — сказал он не без удовольствия, — но мне хотелось бы читать твои стихи дамам.
— Что ж!.. — Пушкин задумался на мгновение и прочитал измененные строки:
В нем пунша и войны кипит всегдашний жар,
На Марсовых полях он грозный был воитель,
Друзьям он верный друг, красавицам мучитель,
И всюду он гусар.
Каверин захохотал, стал обнимать Пушкина и, снова отправляясь наверх, сообщил:
— Пойду ее, душку, домучаю! — И затянул свою всегдашнюю унылую песню:
Сижу в компании,
Ничего не вижу,
Только вижу деву рыжу,
И ту ненавижу!
Поднявшись на галерею, он пустился вприсядку, напевая:
Только вижу деву рыжу,
И ту ненавижу.
Уже на следующее утро санкт-петербургскому обер-полицмейстеру Ивану Саввичу Горголи донесли, что непотребный дом посетили лицейские, а верховодили среди них гусар Каверин и какой-то Пушкин.
— Лицейские? Откуда же они здесь?
— Отпущены к родителям на Рождество, — сообщил агент.
— А Пушкин? Это какой же Пушкин, уж не автор ли «Опасного соседа»? Не он ли развращает молодежь? Тогда надо сделать внушение… — рассуждал вслух Горголи.
— Нет, — отвечал ему агент, — это его родной племянник. Лицейский Пушкин. Он еще называл себя в подпитии Энкашепэ…
— Энкашепэ? Что сие значит?
— Не выяснил.
— Так выясни! Еще один появился, этих Пушкиных как собак нерезаных, и все шутники, — проворчал Горголи. — А я подумал уж, Василий Львович в Петербурге опять объявился! Он любит непотребные дома.
Горголи не стал уточнять, что встречал дядюшку в сих домах довольно часто, пока место петербургского обер-полицмейстера, которое он занял в 1809 году, навсегда лишило его возможности посещать эти милые заведения. А ведь когда-то он был повесой, никто так не бился на шпагах, как он, никто так не играл в мяч, никто не был таким модником и щеголем; даже тугие галстухи на свиной щетине, которые он первым стал носить в Петербурге, до сих пор называли горголиями. Впрочем, Софья Астафьевна, кроме того, что исправно доносила ему, о чем говорят господа в подпитии у девочек, еще и привозила к нему этих девочек тайком. Не бесплатно, разумеется; Иван Саввич никогда не пользовался своим служебным положением, человек был благородный.
Он поправил свой галстух.
— А Алексей Михайлович Пушкин, — вспомнил вдруг Иван Саввич, — его двоюродный брат, любил, бывало, подшутить над Васильем Львовичем. Я помню, как он потешался, что Василий Львович единственный, кто не узнал, что он имел шуры-муры с его женой.
— Этот племянничек тоже хорош, — поддакнул ему агент. — Василису, новенькую, теперь она Зинаида, с Охты которая, в одних чулках на люди вывел…
— В чулках? — переспросил Горголи.
— Да, в синих, — подтвердил агент, улыбаясь.
— И что, хороша? — поинтересовался Горголи.
— Хороша-с.
Горголи прошелся по приемной.
— По лицейским никакому делу хода не давать! Они отпущены под присмотр родителей, так пусть родители за них и отвечают, — резюмировал он. — Дело сугубо частное…
Все-таки Иван Саввич всегда продолжал себя чувствовать гвардейцем и сохранял благородство замашек, не позволявшее ему заниматься прямым сыском.
Пушкин, вырвавшись из Лицея на волю, носился по Петербургу. Первым делом он навестил Жуковского и вернул книги, которые поэт оставлял ему и Кюхельбекеру. Он договорился с Василием Андреевичем, что составит для него антологию своих лучших стихов: зуд и нетерпение работы просыпались в нем. Он ездил на извозчике по Невскому, платил ему, не торгуясь, из денег, которые Сергей Львович отпустил на рождественские подарки, заходил в книжные магазины, сначала робко, осторожно, будто слепой, нащупывающий дорогу, но быстро пристрастился, стал рыться в книжных отвалах, смотреть каталоги и приказывать, чтобы доставляли книги в дом Клокачева, у Калинкина моста, статскому советнику Пушкину, ибо батюшка вот-вот должен был получить отставку с чином пятого класса. Сергей Львович, несмотря на скупость и вечный недостаток средств, за книги все же исправно платил, ибо в доме Пушкиных денег на книги никогда не жалели.
Однажды вечером, в рождественской кутерьме, когда пушистый снег кружил вокруг фонарей на Невском, среди криков разносчиков всевозможной снеди, бродивших под сводами Гостиного двора, Пушкин встретил, едва выйдя из очередной книжной лавки, Мартына Степановича Пилецкого-Урбановича, бывшего лицейского надзирателя.
Пушкин застрял возле торговки апельсинами. Она торговала ими с лотка, висевшего у нее на длинном ремне. Пушкин перебирал оранжевые плоды, надавливая их длинными, коричневатыми от природы пальцами с длинными и крепкими ногтями. Дух заморских фруктов распространялся в морозном воздухе. И тут он увидел Мартына, который с горящими глазами, ничего не видя перед собой, устремлялся к какой-то, одному ему ведомой цели. Странно, но за все эти годы Пушкин почти не вспоминал о нем, а сейчас даже обрадовался встрече, никакой вражды в его сердце к тому не осталось. Пушкин остановил его, Пилецкий узнал своего бывшего ученика, даже обрадовался, моргая красноватыми, словно с недосыпа, глазами. Оказывается, он служил теперь директором Института глухонемых. Пушкин мысленно усмехнулся, порадовавшись за учеников Пилецкого, которые не могут слышать его нотаций. Они говорили несколько минут, вспоминая былые годы.