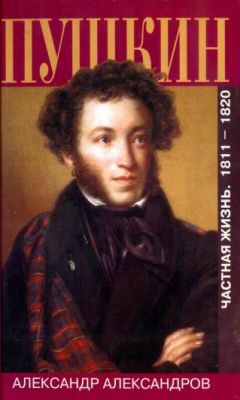Мать будущей пророчицы, Екатерина Федоровна, порой наезжала из Остзейского края, где теперь проживала, и тоже участвовала в ее собраниях. В Михайловском замке, совсем рядом с дворцовой церковью, и проходили радения ее хлыстовской секты. Младший брат ее, барон Петр Филиппович Буксгевден, тоже был ревностным ее прихожанином.
Говорили, что Татаринова связана тайными духовными узами с главным скопческим богом Кондратием Селивановым, и насколько крепка была эта связь (ибо говорили даже, что она занимается скоплением не только мужчин, но и женщин), и предстояло выяснить давнишнему полицейскому осведомителю Пилецкому-Урбановичу, который еще по службе в Лицее состоял в осведомителях, за что и получил при выходе из оного благодарность и денежное вознаграждение.
По счастью, а вернее, по долгу службы, Пилецкий уже знал этого женоподобного старичка, последователем которого считалась Татаринова, — «спасителя» или «государя батюшки искупителя», как его звали в своей среде скопцы. Хотя сам Селиванов называл себя в рифму «скопителем». Хлысты и скопцы любили говорить в рифму, изобретая новые слова и даже особый боговдохновенный язык, понятный, как они считали, только им и Богу. Язык этот обладал даже известной долей поэзии, которая зачастую и в обыденной литературной реальности теряет смысл, оставляя только ритм и размер, а у хлыстов со скопцами вообще превращалась в тарабарщину, музыку херувимскую.
Он хорошо помнил свое первое посещение Кондратия Селиванова. Тот жил в доме богатого купца Михаила Назарова Солодовникова, ворочавшего миллионами и украшенного знаками царского отличия: дорогими кафтанами и даже орденами. Дом стоял на углу Знаменской улицы и Ковенского переулка, задами примыкал к двору скопца Кострова.
Будочники, стоявшие на углу этого огромного, вновь отстроенного для скопческого бога поместительного деревянного дома, со священным трепетом указывали вопрошающим обывателям на него, называя его, на манер скопцов, Божьим домом или Горним Сионом. Дом состоял из нижнего этажа в девять окон и мезонина в пять. Сам дом, запертый наглухо, охраняли отставные солдаты. Чтобы пройти, надо было сказать тайное слово.
Мартына Степановича провели по длинному коридору внизу, и они оказались в комнатке, где сидели несколько бледных мальчиков с синими кругами под глазами, весь вид их показывал недавно перенесенную тяжелую болезнь, и Мартын Степанович с болезненным замиранием сердца понял, что перед ним недавно оскопленные отроки, и содрогнулся.
Отроки подали им белые халаты с веревочкой, пришитой к поясу сзади, и тапочки с такими же веревочками.
Мартын Степанович переоделся и подпоясался.
— Теперь пойдем к богу! — сказал ему приведший его.
Откуда-то сбоку слышалось пение, визгливые женские голоса выводили:
— Овцы, вы овцы, овцы белые мои!
Его повели вверх по лестнице, и снова через длинный коридор попали в комнату, где сидели три скопца. Почему-то при взгляде на них сразу становилось понятно, что это скопцы. Особый цвет лица, землистый, потеки под глазами, отсутствие бороды и усов, лишь несколько торчащих волосков напоминали о былой мужской возможности, розовато-синие губы с блаженной улыбкой шептали молитвы.
— Кого привел, Варлаам? — вопросил один из скопцов спутника Пилецкого.
— Овцу заблудшую!
Скопец встал и повел их дальше.
В большой комнате в полутьме виднелась необъятная кровать под пологом с задернутыми кисейными занавесками с золотой нитью и золотыми же кистями. Перед кроватью лежал ковер, вытканный ликами ангелов и архангелов, херувимов и серафимов. Вошедшие остановились в нерешительности перед ковром, но скопец показал на тапочки и сам первым вступил на него. Ковер был мягок, и нога в нем утопала.
— Государь батюшка спаситель, — позвал скопец.
Занавесочка шевельнулась и отдернулась. Пред ними явился старчик, полулежавший на подушках в батистовой рубашечке и сафьянных спальных полусапожках. Ссохшееся личико старого младенца оживляли светящиеся глаза.
Пилецкий поймал себя на мысли, что против воли ищет в этом старичке сходства с Павлом I, ведь Селиванов объявил себя Петром III, чудом спасшимся от убийства и принявшим впоследствии скопчество. Самым удивительным в этой истории для Пилецкого было то, что уже много лет этот самозванец, каторжник свободно проживал в Петербурге и никто его не трогал. Конечно, деньги у скопцов были огромные, не всегда понятно, откуда взявшиеся, но не все же в мире решают деньги.
В свое время его вызвал из Сибири Павел I и после короткого разговора заключил в сумасшедший дом при Обуховской больнице, откуда уже при Александре его вызволили скопцы, за что боготворили Александра и усматривали в его действиях признание Селиванова за своего деда.
— Чего пожаловал? — спросил его старец. И резкие морщинки вокруг его юного рта побежали в разные стороны. Голос у старца был птичий, высокий.
— За благословением, батюшка, — сказал Пилецкий, не желая открыться. Время для диспута со скопцами, как он считал, тогда еще не настало, следовало сначала присмотреться, разузнать их обычаи.
— Повидал меня — иди! — остался недоволен им старец. — И впредь не приходи. Не признал ты отца небесного! Заблудишься. Постой-ка! — Он потянулся к блюду, стоявшему на столике рядом с кроватью. Он взял с блюда просфорку и протянул Пилецкому: — Возьми да зайди к пророкам! Тебе все скажут.
И сказали ему пророки, что придет он к пророчице, а та пророчица родит от царя земного, внука плотского царя небесного, и будет сия девица непорочная, и будет он жить с девицей непорочной в церковном браке, как Иосиф с Марией, как убеленный с убеленною, до самой смерти своей.
Ничего не поняв из сказанного, вышел тогда Пилецкий от Селиванова в темный Ковенский переулок и только впоследствии, когда попал к Татариновой, заплясал, заходил ходуном на ее радениях, вспомнил он слова селивановских пророков.
Кого только не встречал он в корабле Татариновой: среди первых был полковник Александр Петрович Дубовицкий, очень богатый рязанский помещик, кажется, он был дальним родственником Татариновой по мужу и его соседом; Попов Василий Михайлович, директор Департамента народного просвещения, при недавно назначенном новом министре духовных дел и просвещения князе Александре Николаевиче Голицыне; Иов, законоучитель Морского кадетского корпуса; офицеры гвардии, несколько лиц из простонародья, ибо маменька никому не отказывала.
Все члены Союза называли Татаринову «матушкой» или «маменькой». Называл ее маменькой и Пилецкий, целовал ей худые нервные руки и жадно ловил каждое слово. Потому-то каждый раз, когда он шел к ней в корабль, сердце его замирало, как у любовника, идущего на первое свидание.