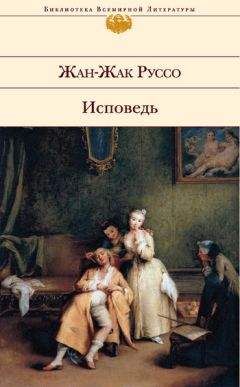В этих воспоминаниях я держусь объективных оценок, ничего не «обсахариваю» и не желаю никакой тенденциозности ни в ту, ни в другую сторону. Такая личность, как Луи Блан, принадлежит истории, и я не претендую давать здесь о нем ли, о других ли знаменитостях исчерпывающие оценки. Видел я его и говорил с ним два-три раза в Англии, а потом во Франции, и могу ограничиться здесь только возможно верной записью (по прошествии сорока лет) того, каким я тогда сам находил его.
Его живая беседа, полная фактов и суждений в категорической форме, не давала впечатления цельной, сильной натуры. В нем что-то было, для меня, ниже его всемирной репутации. Но, во всяком случае, он казался мне гораздо симпатичнее Ледрю-Роллена, неизмеримо его образованнее и новее. Он не замариновал себя в узости и нетерпимости эмигранта. Долгое пребывание в Англии расширило его собственный кругозор. Он остался верен своим идеалам и своей социальной доктрине; но жизнь британского общества и народа многому его научила, и он входил в нее с искренним интересом, без высокомерного самодовольства, которым так часто страдали французы его эпохи, когда им приводилось жить вне своего отечества.
Завтракать с нами Луи Блан пригласил Джона Морлея, и тогда уже известного писателя, автора замечательных этюдов о Дидро и Руссо, редактора «Fortnightly Review» после Льюиса, который и основал этот журнал.
«Fortnightly» значит две недели, и при Льюисе журнал выходил два раза в месяц, но при Морлее сделался ежемесячным.
Для меня это знакомство было особенно ценным. Морлей принадлежал к самой передовой и свободомыслящей группе тогдашних лондонских «интеллигентов», к последователям и почитателям Дж. — Ст. Милля.
Тогда он смотрел еще очень моложаво, постарше меня, но все-таки он человек скорее нашего поколения. Наружности он был скромной, вроде англиканского пастора, говорил тихо, сдержанно, без всякого краснобайства, но с тонкими замечаниями и оценками. Он в то время принадлежал исключительно литературе и журнализму и уже позднее выступил на политическую арену, депутатом, и дошел до звания министра по ирландским делам в министерстве Гладстона.
Общий наш разговор у Луи Блана шел по-французски. Морлей объяснялся на этом языке свободно. После завтрака мы пошли гулять по набережной, и вот тут Морлей стал меня расспрашивать о том русском движении, которое получило уже и в Европе кличку «нигилизма».
— Мы говорим об этом русском движении в печати, но, в сущности, никто у нас о нем хорошенько не знает, — так он, с британской честностью, высказался мне.
Я постарался набросать ему в общих чертах элементы этого движения и в философско-научном, и в общественном смысле. Это его настолько живо заинтересовало, что он тут же сказал мне:
— А что, если бы вы написали статью для «Fortnightly» на эту именно тему? Я был бы вам очень благодарен.
Я стал оговариваться насчет того, что недостаточно владею английским стилем, но Морлей считал это несущественным. И, как истый британец, сейчас же стал условливаться со мною о времени появления статьи.
— Могу оставить вам место в июльской книжке и уделю вам двадцать с лишком страниц.
Предложение было довольно-таки заманчиво. Я взял у него несколько дней сроку для ответа. Дело было в конце мая, стало, мне оставался всего какой-нибудь месяц.
Сговорившись с моим «магистром» насчет поправки моего языка, я известил Морлея, что приступаю к работе, и к сроку она была готова. Мы ее и назвали без всяких претензий: «Нигилизм в России».
И вот, когда мне пришлось, говоря о русской молодежи 60-х годов, привести собственные слова из статьи моей в «Библиотеке» «"День" о молодом поколении» (где я выступал против Ивана Аксакова), я, работая в читальне Британского музея, затребовал тот журнал, где напечатана статья, и на мою фамилию Боборыкин, с инициалами П. Д., нашел в рукописном тогда каталоге перечень всего, что я напечатал в «Библиотеке». В Британском музее и писалась черновая статьи. Через день приходил ко мне мой ментор, брал листки и делал свои поправки, а потом все и перебеливал.
Когда я получил из конторы «Fortnightly» первый мой английский гонорар, я был счастлив тем, что мог предложить моему магистру дополнительное вознаграждение за его занятия со мною. Пикантно было то, что мне, неизвестному в Англии русскому писателю, заплатили полистную плату гораздо выше той, какую я получал тогда в России не только за журнальные или газетные статьи, но и за пьесы и романы.
Свой чек на банкиров братьев Беринг — увы! я весьма скоро должен был разменять на фунты и истратить их.
Льюис — автор «Физиологии обыденной жизни», как я сейчас сказал, не был уже в то время редактором основанного им «Fortnightly Review». Знакомство с ним, кроме того что он сам тогда представлял собою для людей моего поколения, тем более привлекало меня, что он жил maritalement с романисткой, известной уже тогда всей Европе под мужским псевдонимом Джордж Элиот. Ее настоящей девической фамилии никто тогда из нас хорошенько не знал. Но известно было многим, что она была девицей, когда сошлась с ним. Их настоящему браку мешало, кажется, то, что сам Льюис не был свободен.
Льюис жил в пригороде Лондона, в комфортабельном коттедже, где они с Джордж Элиот принимали каждую неделю в дообеденные часы. Вся тогдашняя свободомыслящая интеллигенция ездила к автору «Адама Бида» и «Мидльмарча», не смущаясь тем, что она не была подлинной мистрисс Льюис. При отце жил и его уже очень взрослый сын от первого брака — и всегда был тут во время этих приемов.
Никогда я не встречал англичанина с такой наружностью, тоном и манерами, как Льюис. Он ни малейшим образом не смахивал на британца: еще не старый брюнет, с лохматой головой и бородой, смуглый, очень живой, громогласный, с нервными движениями, — он скорее напоминал немца из профессоров или даже русского, южанина. Тогда я еще не знал доподлинно, что он был еврейского происхождения.
Зато знаменитая его подруга была англичанка чистой крови, на вид не моложе его, очень некрасивая, с типичной респектабельностью всего облика, с тихими манерами, молчаливая, кроткая и донельзя скромная. Как хозяйка настоящего литературного салона — она вела себя с трогательной скромностью. Не знаю, происходило ли это от одной только слишком развитой застенчивости. Отчасти — вероятно. Но если что-нибудь ее заинтересовывало в общей беседе, она вставляла свой вопрос или замечание, в которых сейчас же проявлялись ее высокая развитость и начитанность.
Для меня как пылкого тогда позитивиста было особенно дорого то, что эта писательница, прежде чем составить себе имя романистки, так сама себя развила в философском смысле и сделалась последовательницей учения Огюста Конта. Но я знал уже, когда ехал в Лондон с письмом к Льюису, что Джордж Элиот — позитивистка из так называемых «верующих», то есть последовательница «Религии человечества», установленной Контом под конец его жизни.