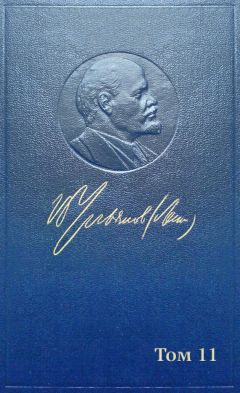Как-то в доме Шаляпина появилось новое лицо — младший брат его, вскоре исчезнувший. Спустя долгое время я спросил о нем. Старший ответил с горечью:
— Он спился окончательно — от зависти ко мне и вдобавок обокрал меня! Ведь зависть всегда переходит в злобу. Должно быть, именно поэтому у меня такая масса врагов. В особенности их много из числа тех людей, для которых я делаю что-нибудь хорошее. Ненавидит меня также и та актерская братия, которая привыкла относиться к искусству с точки зрения «двадцатого числа», и все у нее сходило с рук, а теперь нельзя стало! Терпеть не могу дураков, в особенности, если они попадают на сцену!
Шаляпин юмористически улыбнулся.
— Знаю, что скажут обо мне все они, когда я умру… Скажут — сво-лачь был, но — талантливый. А ведь мне только это последнее и нужно!
Случилось, что за кулисами появилась даже «мать» Шаляпина, деревенская старуха, несомненно кем-то подосланная за крупной суммой.
— Он, он самый, как есть мой сынок!
Когда мнимый «сын» объяснил, что мать его похоронена в Казани, и отказал в деньгах, старушка, уходя, недовольно бормотала:
— Какой скупой!
Мне случайно пришлось быть свидетелем разговора Шаляпина с крупным адвокатом о том, как быть с шантажистами, грозившими взыскать с него сто тысяч за воспитание двадцатилетнего «незаконного ребенка».
Больше всего, однако, опасался он тайных врагов, не раз прибегавших к газетным «уткам» для очернения его имени.
Черносотенные круги высшего общества давно были недовольны дружбой знаменитого «императорского» артиста с «левыми» писателями и общественными деятелями.
V
Однажды русские газеты — столичные и провинциальные — подняли шум из-за того, что знаменитый оперный артист Шаляпин стоял на коленях на сцене Мариинского театра во время исполнения хором народного гимна в антракте оперного спектакля, на котором присутствовал царь Николай II.
Все газеты отнеслись к этому поступку великого актера с нескрываемым осуждением, иронией и презрением, за исключением правых, приветствовавших его за проявление монархических чувств.
Газеты восстановили против прославленного артиста всю тогдашнюю интеллигенцию: Шаляпина, члена литературной «Среды», снимавшегося вместе с группой писателей «Знания», дружившего с Горьким и Плехановым, считали, во всяком случае, сочувствующим революционному движению, предполагали и верили, что раз он демонстрирует свою дружбу с революционными писателями, то, вероятно, и содействует им. Ценили в нем не только артиста, но и «демократа», несомненно тяготеющего ко всеобщему и обязательному — левому настроению. Его имя постоянно ставилось рядом с именем Горького — идола эпохи.
Всем было конфузно и стыдно за него, досадно на себя, зачем считали Шаляпина «левым», когда он оказался архиправым и даже в этом расписался в своем знаменитом «письме в редакцию» в ответ на ругань левых и похвалы правых газет; в этом ответе Шаляпина за его подписью было напечатано, что он действительно «стоял на коленях» и сделал это потому, что, улицезрев «помазанника божия», не мог сдержать прилива верноподданнических чувств: заговорило его «ретивое», истинно русское сердце. Письмо было написано «черносотенным» языком и вызывало невольное недоумение. Именно это письмо с выражением верноподданнических чувств страшно уронило и унизило имя Шаляпина в общественном мнении, облило его всеобщим презрением, было понято не как проявление каких бы то ни было политических убеждений, но как унизительное холуйство.
В Петербурге в интеллигентных кругах и в особенности в среде учащейся молодежи с возмущением говорили о публичном самооплевании артиста, многие призывали бойкотировать Шаляпина, то есть никогда больше не ходить на его спектакли.
Крайне-правых, «монархических» взглядов «артист из мужиков» до этого своего письма никогда не исповедовал. Следовательно, такой припадок произошел с ним, как полагали, под каким-то давлением, неискренне, из какого-нибудь расчета. Но какой же расчет так уронить себя в глазах всей страны, подвергаясь всеобщим заушениям? Наоборот, уж если искать выгоды, то выгоднее было бы отказаться, «пострадать за отказ»: с каким восторгом отнеслись бы к такому «героизму» те же газеты и все «общественное мнение»! Ведь отделался же писатель Амфитеатров за «Господ Обмановых» всего только маленькой ссылкой, но зато был прощен прессой за сотрудничество в «Новом времени», а публикой по возвращении из пустяковой ссылки был встречен овациями, как герой! Вот какое было время!.. И не глуп ли какой-то там «расчет» Шаляпина?.. А между тем, по рассказам, он сам организовал пение гимна и стояние на коленях, стоял в этой позе перед царем впереди всего хора. Да еще печатно подтвердил свое стояние, объяснив приливом монархических чувств!
Глупо, нерасчетливо и фальшиво!
Всю эту историю я, находясь в то время в поездке по провинции, знал из газет, но, вернувшись в Петербург, только и слышал от всех встречных и поперечных, что выражение негодования по адресу Шаляпина. Газеты продолжали измываться над ним, даже карикатуристы и цирковые шуты всячески варьировали эту тему.
Но мне все-таки казалось, что тут «есть что-то», какое-то недоразумение: слишком невероятна была бестактность Шаляпина.
Я знал и любил этого умного, чуткого человека и в душе был бы рад найти для него какое-нибудь оправдание: ведь его осуждали не за политические убеждения, а за лицемерие, холуйство, подхалимство, публично обнаруженные; мне больно было бы окончательно убедиться в этом. Я ждал случая лично встретиться с ним.
Вдруг Шаляпин сам прислал за мной с просьбой непременно и немедленно приехать к нему на квартиру.
Жил он тогда на Петербургской стороне, на краю города в собственном доме. Я встретил у него в кабинете еще несколько петербургских писателей.
Завидя меня, хозяин сказал:
— Ну, вот спасибо, что приехал. Теперь все в сборе. Жаль, нет Андреева, а Горький на Капри и на мои письма не отвечает. Господа! Я не имею возможности печатно восстановить истину о моем якобы стоянии на коленях перед царем и хотел бы, чтобы вы здесь выслушали меня и не поступили бы так, как поступил Плеханов. Он вернул мне по почте мою фотографическую карточку с надписью: «Возвращается за ненадобностью»! Согласитесь, что ведь это — пощечина! И неужели ему не пришло в голову, что газеты, которым он так легко поверил, слишком часто врут, что все напечатанное про меня могло быть неправдой уже по одному тому, что напечатано в газетах!
Опровергать все это в газетах я не буду, по обстоятельствам дела — не имею возможности, да и не умею я писать по-газетному, никогда не пробовал. Лучше я расскажу вам всю правду на словах.