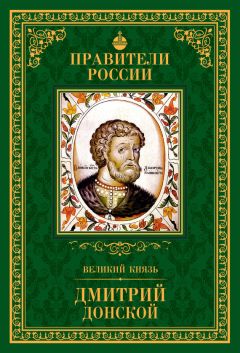— Ольга Давидовна все понимала. Она ждала. Лев Борисович, тот вообще был не от мира сего, а она ждала и боялась. Меня всегда потрясал пессимизм Ольги Давидовны. Она часто говорила мне: «Ох, Галенка, плохо нам будет, плохо. Живите, пока живется, вы молодые. Плохо будет». — «Почему вы так говорите?» — «Я это чувствую. Я много знаю. Вот увидите, нас ожидает огромное горе. Жизнь будет очень трудной, сложной».
Лев Борисович, наоборот, очень был оптимистичен. И весь в искусстве. Я не помню, чтобы он когда-нибудь в доме говорил о политике. Он, когда я вошла в их дом, вообще уже отошел от политики. Весь в книгах. Обожал музыку.
Троцкий? Брат Ольги Давидовны? Я его не знала. Он уехал, вернее, его выслали в двадцать седьмом, а я пришла в дом в двадцать девятом. Ольга Давидовна никогда о брате не говорила. Сережа, младший сын Троцкого, у нас бывал. Очаровательный. Скромный. Двое детей. Такое несчастье. Когда нас выселяли, после ареста Льва Борисовича и Ольги Давидовны, мы все попали в один дом — и я, и Юра, младший брат моего мужа Лютика, и Сережа, сын Троцкого. Дом был на улице Горького, 27, дом ВЦИКа. Гостиничного типа. Бывшая дореволюционная гостиница. Не перворазрядная. Там мы все и жили.
Наташа? Жена Троцкого? Наташа Седова? Нет, я ее не знала, она уже была там, за границей. Говорили, что скромная. Очень любила его. Русская была. Дворянка. Старший сын уехал с ними, а Сережа отказался ехать. Его потом расстреляли, детей его куда-то угнали — я не знаю концов. Такое горе…
— Галина Сергеевна, — меняю я грустную тему, — вы помните, чем питались в семье Каменевых?
— О да. Это хорошо помню. Питание было на мне. «Кремлевка» была. Пятьсот рублей вносили на месяц за человека, и я ездила за обедами. Обеды были на двоих, на Льва Борисовича и Ольгу Давидовну, но девять человек бывали сыты этими обедами — вот так. Я ездила за ними на машине Льва Борисовича. В доме жили кухарка и Терентьевна, няня Лютика. Строгая была, никаких девиц Лютика не признавала, а меня полюбила сразу. Выпить обожала. И угостить. Когда мы поздно приходили из гостей или со спектакля, нас всегда ждал легкий ужин и водка — красная, желтая, белая. В графинчиках.
В «кремлевке» к обедам давалось всегда полкило масла и полкило черной икры. Зернистой. Вместе с обедом или вместо него можно было взять так называемый «сухой паек» — гастрономию, бакалею, сладости, спиртное. Вот такие рыбины. Чудные отбивные. Все, что хотите.
Если нужно больше продуктов, всегда можно было заказать.
Готовые обеды были очень вкусные — повара прекрасные.
Где была «кремлевка»? А там, где сейчас, в Доме правительства, внизу, налево. Она делилась на две части: одна для людей, близких к Кремлю, — разных чиновников и партийцев, ну, помельче, а другая — для высших чинов, туда я и ездила. Там было все. На Масленицу давали горячие блины. Везли в судках — не остывали, это же близко от Кремля, и машине Льва Давидовича — зеленый свет.
С одеждой было потруднее. Я одевалась в мастерской Наркоминдела, на Кузнецком. Там встречалась с Надеждой Аллилуевой.
Помню, году в тридцать втором, Лев Борисович говорит мне: «Галенка, будете в городе, купите мне носки».
Поехала — вернулась.
«Носков нет, Лев Борисович». — «Как так?» — «Так. В Москве нигде нет носков».
Очень он удивился.
Вторая семья Льва Борисовича нас как-то не касалась, хотя мы все знали о ней. Там тоже, как и здесь, было два сына: один у Глебовой от первого мужа, другой от Льва Борисовича. И разница между детьми такая же, как у наших сыновей: шестнадцать лет между рождениями Лютика и Юрочки.
Настоящая фамилия Льва Борисовича Розенфельд. Нет, он не был евреем, как принято считать. Отец его, инженер-путеец, из обрусевших прибалтийских немцев. Что? Фамилия еврейская? Почему? А Бенкендорф?
* * *
— Как взяли моего сына Виталика? Когда? В пятьдесят первом году. Летом. Я помню, засиделась в гостях у моего друга Николая Николаевича Миловидова, юриста, — замечательный был человек, мастер своего дела. Возвращалась во втором часу ночи, смотрю, недалеко от дома стоит мой сын Виталик. Он был громадного роста. Красивый. Только что стукнуло восемнадцать.
«Ты что?» — спрашиваю. «Так, не спится. Тебя встречаю».
У меня уже была дочь от второго мужа. Но я тогда отправила ее в Грузию. На лето.
Вошли мы в квартиру, и через несколько минут «они» явились. Трое. Увели Виталика и всю ночь шарили. Обыск делали. Хамы невероятные. Это вообще была варфоломеевская ночь — этой ночью взяли всех подросших детей «врагов народа», Леночку Косареву тогда же взяли.
— А что они искали у Виталика?
— Связи искали. Письма Льва Борисовича. Нашли два письма. Оба — мне. Одно Лев Борисович в больницу-«Кремлевку» прислал, когда Виталик родился, свекор тогда подарил мне револьверчик. Павел Аллилуев привез из-за границы два одинаковых револьверчика — один подарил Льву Борисовичу, другой своей сестре. Из него она, говорят, и застрелилась. Хотя ведь ходили слухи, что Сталин ее…
* * *
— Галина Сергеевна, если можно, вернемся к Лютику.
— Он два раза сидел. Первый раз в Бутырке. Я с маленьким Виталиком ходила к нему. Виталик все говорил: «Папа через канавку».
Две сетки, а между ними пространство — канавка.
Он получил три года ссылки. На свидании Лютик попросил меня: «Напиши, ради бога, Иосифу Виссарионовичу, чтобы меня этапом не посылали, а нормально отправили».
Я тут же написала, отнесла письмо, и через двадцать четыре часа позвонил Поскребышев, сталинский секретарь, — омерзительная личность, но известие сообщил хорошее: «Иосиф Виссарионович письмо прочитал, все, о чем просите, разрешено».
Я Лютика провожала.
Позвонили мне «оттуда», сказали, откуда звонят, говорят: ваш муж сегодня отъезжает с Казанского вокзала в семь вечера, просит привезти ему к поезду кожаное пальто, столько-то денег и чемодан.
Я побежала. На вокзале, в специальной комнате, сдала вещи и расписку потребовала. Я была молодая, экспансивная, ничего не боялась.
«Давайте расписку, вы все жулики!»
Они дали.
Я кинулась в справочную, там подтвердили, что поезд отходит в семь часов пять минут на Алма-Ату с первого пути.
Бежала вдоль состава, искала вагон с решетками. Состав был — ну я не знаю сколько — мне казалось, что сто вагонов. Оставалось очень мало времени: нету, нету, нету, и у самого паровоза — вагон. Очень приличный. Вижу — малиновые фуражки, и вдруг Лютик, уже бритый, уже хороший, потому что в тюрьме он был ужасный, без пояса, без знаков различия, а тут уже нормальный.
Увидал. Только показал на пальцах — три года. Мы с ним очень хорошо простились.