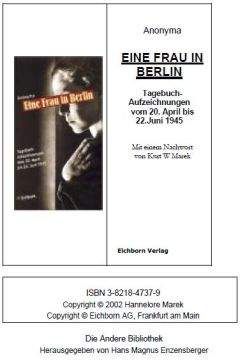Большой парень белыми зубами, кавказский тип. Однако, он смеётся над моей нерешительностью и над жалкой кучкой, которая хочет жаловаться.
«Ах, что вы, это бы Вам определённо не повредило. Наши мужчины все здоровы».
Он неторопливо прогуливается назад к другим офицерам, мы слышим, как они смеются вполголоса. Я возвращаюсь к нашей серой куче: «Это не имеет смысла».
Толпа возвращается в подвал. Я больше не могу видеть эти гримасы подвала, поднимаюсь на первый этаж, вместе с вдовой, которая ходит вокруг меня как вокруг больной, тихо говорит, гладит меня, наблюдает за мной, это мне уже кажется надоедливым. Я хочу всё забыть.
Я разделась в ванной, впервые за эти дни, умывалась, так хорошо это можно было сделать в маленьком количестве воды, почистила зубы перед зеркалом. Вдруг в дверном проёме выныривает, беззвучный как дух, внезапно бледный русский. Он спрашивает по-немецки тихим голосом: «Где, скажите, пожалуйста, дверь?» Он, очевидно, заблудился в квартире. Я, стоя неподвижно перед удивлённым в ночной сорочке, указываю ему безмолвно дорогу к главному входу, который ведёт на лестничную клетку. На это он отвечает вежливо: "Спасибо".
Я иду в кухню. Да, он проник с чёрного хода. Шкаф для щёток, который мы с вдовой поставили, был отодвинут. Вдова как раз через заднюю лестницу поднимается наверх из подвала. Вместе мы снова баррикадируем заднюю дверь, но на этот раз основательно. Мы строим башню из стульев перед дверью и пододвигаем, наконец, ещё тяжёлый комод. Это, как полагает вдова, их остановит. Главный вход она закрывает на засов, как всегда. Мы чувствуем себя наполовину в безопасности.
Крохотный маленький огонь мерцает в сальной коптилке светом Гинденбурга. Это отбрасывает наши тени в потолок. Вдова устроила мне лежбище в жилой комнате на её кровати. Впервые за долгое время мы не опустили шторы затемнения. К чему? Больше не будет воздушных налётов, с этой ночи с пятницу на субботу мы уже русские. Вдова сидит у меня на крае кровати, она как раз снимает ботинки, и тут грохот, шум.
Бедная задняя дверь, жалко сооружённая баррикада. Уже трещат и громыхают стулья. Слышим потасовку, толкотню и много грубых голосов. Мы пристально смотрим друг на друга. В стенной трещине между кухней и жилой комнатой мерцает свет.
Теперь шаги в прихожей. Кто-то распахивает дверь нашей комнаты.
Один, 2, 3, 4 парня. Все вооружённые, автоматы в бёдра. Они смотрят на двух женщин только мельком, не говоря ни слова. Один идёт немедленно через комнату к шкафу, раскрывает оба ящика, роется в них, снова захлопывает, роется, говорит пренебрежительно что-то и тяжело ступает наружу. Мы слышим, как он рядом в комнате роется, в той, что занимал раньше субквартирант вдовы, до тех пор, пока его не забрали в фолькштурм. Трое других стоят и шепчутся друг с другом, осматривают меня украдкой. Вдова скользнула снова в свои ботинки, она нашёптывает мне, что она хотела бы найти помощь в других квартирах... Уходит. Никто из мужчин не препятствует ей.
Что я должна делать? Сразу я чувствую себя странно безумной, сидя тут в моей розовой ночной сорочке с бантами в кровати перед тремя чужими парнями. Я больше не выдерживаю этого, нужно что-то говорить, что-то делать. И я спрашиваю по-русски: «Что вы сделаете?»
Они переглядываются. Три озадаченных лица: «Откуда ты знаешь русский?»
Я говорю ему мою дежурную русскую фразочку, объясняю, как я путешествовала по Россию, изображая, как я фотографирую тут и там. Теперь три воина садятся в кресла, их винтовки отодвигаются и протягиваются ноги. Мы болтаем о том, о сём, снова и снова я прислушиваюсь к звукам в прихожей, ожидая, чтобы вдова с заявленной вспомогательной группой соседей возвратилась. Однако ничего не слышу.
Между тем, четвёртый парень снова смотрит вовнутрь и проходит с третьим солдатом в нашу кухню. Я слышу, как они там занимаются посудой. Двое других тихо болтают, я, очевидно, не должна понимать, что происходит. Собственно, настроение сдержанное. Что-то носится в воздухе, искры летают по кругу, я спрашиваю себя, что будет.
Вдова отсутствует. Я снова продолжаю беседу с обоими в креслах, укрытая моим сшитым из лоскутов одеялом, совершенно ни о чём. Косые взгляды. Они скользят просто так вокруг. Теперь это должно было бы собственно начаться, я узнала это из газет, когда они ещё имелись, сколько: 10 раз, 20 раз, откуда я знаю. У меня температура. Моё лицо горит.
Теперь те с кухни зовут. Те, что в креслах встают, прогуливаются неторопливо в сторону кухни, опять зовут. Тихо я выползаю из кровати, прислушиваюсь к двери на кухню довольно долго, там пьют, по-видимому. Мелькаю тогда совершенно тёмной прихожей, подкрадываюсь на голых ногах, хватаю мимоходом своё пальто с крючка и натягиваю его на ночную сорочку.
Осторожно я открываю дверь главного входа. Сейчас она просто на защёлке, после вышедшей вдовы. Я слушаю молчаливую, чёрную лестничную клетку. Ничего. Нигде ни звука или проблеска света. Куда только вдова могла только уйти? Как только я хочу подняться вверх по лестнице, там сразу кто-то беззвучно обхватывает меня сзади в темноте.
Дыхание, пары водки. Моё сердце прыгает как бешеное. Я шепчу, я умоляю: «Только один, пожалуйста, пожалуйста, только один. Только избавьтесь от других».
Он обещает это, шепча, и несёт меня как узелок на обеих руках по коридору. Я не представляю, кто это из четырёх, как он выглядит. В тёмной комнате без стёкол он кладёт меня на голой, покрытой кровати предыдущего субквартиранта. Что-то говорит грубо в направлении кухни через проход, дверь за собой затворяет и ложится в темноте ко мне. Я жалко мёрзну и прошу оставить меня, всё же рядом раскрытая кровать. Он не хочет, кажется, опасается возвращения вдовы. Только через полчаса, когда все успокоилось, он отодвинулся.
Теперь автомат дребезжит у боковой стойки кровати; мужчина повесил на него шапку. Тихо горит сальная свеча. Петька, так звали солдата, с головой как карандаш, белокурой щетиной растущей треугольником ко лбу, на ощупь как диванный плюш. Впрочем, он великан, широкий как шкаф, с огромными лапами и белыми зубами. Я так устала, изнасилованная таким образом, едва понимаю, где я. Петька хлопочет рядом, он из Сибири. Он даже стянул сапоги. Меня шатает, я существую только наполовину, и эта половина больше не защищается, она поддаётся жёсткому пахнущему хозяйственным мылом телу. Наконец, спокойствие, темнота, сон.
Утро около 4 часов, каркает водопроводный кран. Я тотчас же встаю, вытаскивает мою руку из-под Петьки. Он показывает, улыбаясь, свои белые зубы. Встаёт проворно, объясняет мне, что у него сейчас служба, что он возвратится, тем не менее, определённо в 7 часов - совершенно определённо! И он почти раздавливает мне на прощание пальцы.