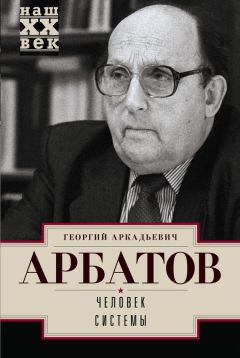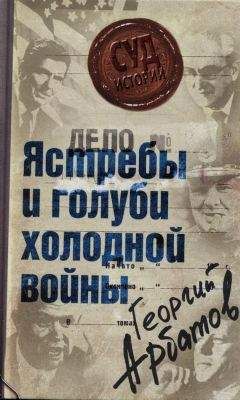Я тогда не очень задумывался о смысле государственной политики. Уже потом мне приходило в голову, что объяснялось это не столько молодостью, сколько прививавшимся и развивавшимся системой инстинктом самосохранения (те, кто не хотел или «не поддавался», как правило, просто не выживали). Как я уже писал, одной из главных целей происходившего было внушить всем нам главное правило поведения подданного диктатуры: бойся своих мыслей, каждая своя мысль может быть опасна.
Весь строй жизни, начиная даже, казалось бы, с вольных студенческих лет, учил будущих политиков, теоретиков, журналистов писать, говорить и даже думать чужими мыслями – «классиков» марксизма-ленинизма (хотя осторожно, с очень большим разбором, иначе можно было попасть в крупные неприятности), Сталина (его полагалось цитировать в два-три раза чаще Ленина и в пять-шесть раз чаше Маркса и Энгельса) и признаваемых в тот момент других «вождей», а также вчерашних (они быстро устаревали) передовиц «Правды». Словом, мы все на своем опыте познали, как закрепощается сознание.
Однако с марта 1953 года, хотя это не сразу и не все заметили, настала другая жизнь. Начиналась она робко, почти незаметно, рождаясь в муках.
Первые сигналы о грядущих переменах пришли не из сферы мысли, а из сферы политики. По явному указанию сверху уже в середине марта 1953 года в печати прекратились всеобщий стон и плач по почившему «вождю». Чуть позже последовала следующая сенсация: была разоблачена вся затея с «делом врачей», и тех из них, кто остался жив, выпустили на свободу. В июне арестовали, а в конце года казнили Л.П. Берию и его сообщников. Правда, в чем-то здесь не обошлось без старых приемов, унаследованных от прошлого. В частности, того, что Берия убивал, пытал, мучил тысячи и тысячи советских людей, тогдашнему руководству показалось недостаточно для обвинения. Поэтому, чтобы преступления этого изверга и палача выглядели еще более серьезными, ему добавили привычное, почти традиционное обвинение в шпионаже в пользу, кажется, английской разведки.
Сентябрьский (1953) пленум ЦК КПСС в нашем сознании отложился как очень непривычная – пусть не напрямую – критика существовавших порядков, а тем самым и прошлого руководства, хотя имена, тем более имя Сталина, там не назывались. Речь скорее шла о «критике делом»: о крупных мерах по оздоровлению сельского хозяйства, повороте экономики к повседневным нуждам людей (к сожалению, многие из принятых тогда решений остались на бумаге, но я говорю сейчас о политической и психологической стороне дела). Исподволь – сначала в виде едва заметных политических жестов, введения в оборот новых слов – началось размораживание отношений с окружающим миром. Со временем то там, то здесь вдруг появлялся, опять же без упоминания имени Сталина, новый тогда для нас термин «культ личности». Что очень существенно – понемногу начала рассеиваться атмосфера страха. Именно тогда я начал всерьез задумываться о политике. К тому времени относятся и мои первые серьезные статьи, за которые не стыдно и сегодня, в том числе первые теоретические работы против милитаризма, критика которого стала одной из главных тем моей творческой работы как ученого.
Что еще важнее, все чаще приходили вести уже не о том, что кого-то посадили, а о том, что кого-то, подчас знакомого тебе лично или по фамилии, выпустили из тюрьмы или посмертно реабилитировали.
Очень важными были и некоторые внешнеполитические перемены. Поначалу наше руководство не выступало ни с какими новыми инициативами в международных делах – и это понятно: смерть Сталина означала слишком уж крутую перемену, а кроме того, слишком уж сложным было положение в тогдашнем советском руководстве.
Ситуация, в общем, была такая, что инициативу во внешнеполитической области, хотя бы символическую, должен был проявить Запад – прежде всего США. По-моему, это вытекало не только из ситуации в СССР, но и из тогдашнего состояния советско-американских отношений, да и из тогдашней американской политики.
Известно, что в 1952 – начале 1953 года холодная война достигла особой остроты. 1953–1954 годы рассматривались в США и, насколько можно судить, в СССР как момент наибольшей опасности – то есть риска войны. В США в этой связи развернулась острая дискуссия насчет политической доктрины – с начала холодной войны была принята доктрина «сдерживания» коммунизма (ее справедливо связывают с именем известного американского дипломата и историка, «патриарха» советологии Джорджа Кеннана). Но более консервативные и воинственные круги выдвинули в противовес ей доктрину «освобождения» (освобождения Восточной Европы, части СССР, а может быть, и всего Советского Союза – рамки здесь были неопределенными, нарочито стертыми). Я это очень живо помню, поскольку в 1953 году редактировал для закрытого издания, то есть для руководства СССР, перевод книги Дж. Бернхэма «Сдерживание или освобождение».
Так вот, в ходе избирательной кампании 1952 года в США ряд близких к Эйзенхауэру политиков, а иногда и сам будущий президент выказывали предпочтение идеям «освобождения». И у нас это знали. Победа Эйзенхауэра на президентских выборах, его назначения в кабинете, видная роль, отведенная в нем братьям Даллес – один стал государственным секретарем, другой директором ЦРУ, – убеждали советских лидеров в том, что американская политика в отношении СССР будет еще больше ужесточена.
Потому и для советской общественности, и для многих специалистов и политиков полной неожиданностью стала речь президента Дуайта Эйзенхауэра, произнесенная 16 апреля 1953 года перед редакторами американских газет. В этой речи не только отвергалась доктрина «освобождения», но и давалось понять, что США, если такая возможность будет открыта позицией СССР, готовы к нормализации, улучшению американо-советских отношений.
Что было для всех нас не менее неожиданным – речь перепечатали в «Известиях». Это означало сигнал и американцам, и нашим гражданам, что к словам американского лидера надлежит отнестись серьезно.
И тот факт, что в то же время или чуть позже в «Правде» был напечатан не очень конструктивный комментарий к выступлению Эйзенхауэра, дела не менял.
Хотел бы сделать здесь отступление. Отношение к этой речи Эйзенхауэра как к серьезному сигналу, знали тогда это наши лидеры или нет, было вполне обоснованным. Сравнительно недавно я узнал о некоторых деталях происходивших тогда в руководстве США дискуссий – от Джорджа Кеннана, а затем от американских участников проходившего в Москве в ноябре 1990 года семинара, посвященного памяти Эйзенхауэра (в связи с его столетием).
Вот что рассказал Дж. Кеннан. Он, как известно, был до 1952 года послом США в СССР. Но его объявили (конечно, с ведома, а скорее по указанию Сталина) «персоной нон грата» и вынудили вернуться домой. Вскоре после инаугурации Эйзенхауэра и назначения на пост государственного секретаря Д. Даллеса (то есть в начале 1953 года) Кеннан был последним принят. Разговор был предельно жестким: «Для вас у меня места не будет. Даю три месяца на поиск новой работы». Даллес кардинально расходился с Кеннаном по идеологическим и политическим вопросам. При этом Кеннан заметил, что никогда не забудет смелость, доброту, гражданское мужество Оппенгеймера, пригласившего его, по сути опального, в Принстонский университет, где Оппенгеймеру предстояло создать исследовательский центр самых продвинутых исследований. Здесь началась вторая, очень успешная карьера Кеннана.