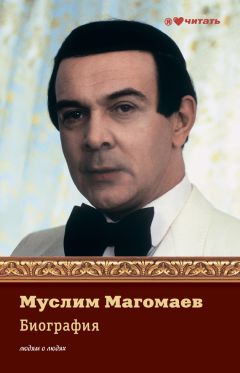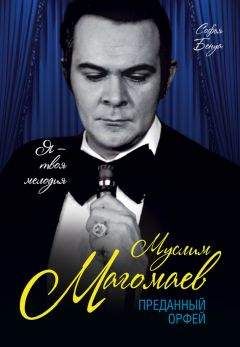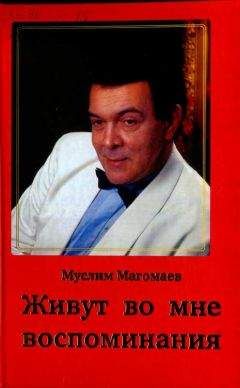— А пока вы, — предложил Петрушанский, — погуляйте недельку.
— У меня денег нет, чтобы гулять.
— Ничего, как-нибудь, живите скромно. Вам нужно обязательно здесь остаться.
Дальше события развивались в темпе скерцо, оживленно, причудливо, быстро. Попал в консерваторское общежитие, чтобы познакомиться со студентами. Встретился там с художником, помнится, звали его Виктором. Этакий непризнанный гений, ниспровергатель всего и вся. Он решительно отвергал всю классику, доказывал, что писать, как Рафаэль, уже никому не нужно. В богемную атмосферу общежития он окунался, чтобы пообщаться с молодыми музыкантами. Любопытный, редкий спорщик, оригинал. Авангардист, не авангардист, он настаивал на самобытном стиле. Я пытался спорить, переводя разговор на музыку: говорил ему, что не могу петь новую музыку, потому что люблю старую. Спорили часами. Он мне показывал свои картины. Интересно, но это было не мое. Кончилось тем, что мы с ним повздорили и разошлись.
В гостинице мне предъявили крупный счет за телефонные разговоры с Баку. А я-то думал, что эти услуги бесплатны. Мне предстояло прожить еще четыре дня. Конечно, можно было позвонить московским родственникам, но гордость не позволяла. Хотелось есть, но в номере из всей еды был оставленный кем-то спичечный коробок с солью. Закрывшись на ключ, макал палец в соль и запивал водой, заглушал голод. Выходить на улицу после таких двух соленых дней я не мог: шатало, как на катере в хорошую волну. На четвертый день, отчаявшись, взялся было звонить в Баку. Но опять приступ гордыни и еще эта моя болезненная мнительность: а если не вышлют деньги?
И вдруг стук в дверь — на пороге мой знакомый спорщик. Улыбка до ушей:
— Все дуешься на меня?
— Нет, на диете сижу.
— Это как?
— Так. Деньги кончились.
— Ну, это поправимо. Идем, я тебя накормлю.
— Я набросился на еду…
А потом бабушка выслала деньги. Недавно, разбирая старые документы, оставшиеся после дяди Джамала, в его портфеле вместе с фронтовыми письмами отца, которые дядя бережно хранил, я нашел и свое письмо бабушке, которое отправил ей из Москвы. Прочел его и с ужасом подумал: как я мог тогда так поступить, умоляя о присылке денег, рассказывая о том, как я голодаю. И порвал его, чтобы никто больше не мог увидеть этого письма.
Пришло время идти к Петрушанскому за ответом. Он действительно дал послушать мои записи баритону из Большого театра.
Я спросил:
— И какой приговор?
Петрушанский отвел глаза:
— Ничего особенного не сказал. В консерваторию ему, то есть тебе, не надо. Пусть, говорит, едет в свой Азербайджан. Да ты не расстраивайся. Ты же сам все знаешь… Повторилась та же история, что и с примадонной из Большого театра, слушавшей меня в Баку. Да, подумалось мне, старики, мастера они все-таки странные. Я тогда уже все знал: и про тех, кто меня судил, и про то, как судил себя я сам. И чтобы закончить историю с этим смешным несмешным Петрушанским (если он здравствует, дай Бог ему здоровья!), забегу вперед. Я вернулся с Хельсинкского фестиваля. Моя фотография появилась в популярном журнале «Огонек». На полосе заметка «Юноша из Баку покоряет мир». Иду или лечу (как хотите) с приятелем по улице Горького. Наша цель — кафе «Мороженое». Вдруг… Господи, ну и встреча! Петрушанский!
— Кого я вижу! — Руки раскинуты для объятий.
— Здравствуйте.
— Вы у нас теперь такая известная личность. Ваши портреты в «Огоньке». — И еще что-то в таком же духе.
— Да… Так вышло, — машинально отвечаю я, думая больше не о его словах, а о мороженом и лимонаде.
— Вы, наверное, на меня обиделись?
— Нет, — говорю я и крепко жму ему руку. — Я человек не обидчивый.
Первая поездка в Москву оставила ощущение, словно человек внезапно заболел и теперь понемногу начинает приходить в себя. Болезнь прошла, лихорадка осталась. Тот окраинно-московский специалист по связкам и вокалу официально засвидетельствовал мои певческие возможности к вящей радости моего осторожного дяди Джамала. Мне же это не очень-то было и нужно. Я и без доктора знал, что хочу петь и буду, что всяческие ломки голоса и прочие возрастные перемены для меня не помеха.
Я возвращался в Баку, вспоминая и богемные споры в общежитии, и первые записи в студии звукового письма, которые дали мне возможность по-настоящему узнать ощущение собственного голоса со стороны. Чувство непривычное, почти мистическое… И вынужденное голодание в гостиничном номере, которое открыло мне такое в человеческой природе, когда чувство голода превращает нервную систему в голые провода. Таким состоянием можно как угодно манипулировать людям сытым. Я до того не знал, что такое голод. Теперь знаю, как недостойно, трудно, даже опасно быть голодным.
Под стук вагонных колес отступила обида на именитого баритона с обычной русской фамилией, отозвавшегося с холодным пренебрежением о моем пении. Потом, когда узнаю, что абсолютно объективных оценок не бывает, я найду объяснение таким поступкам мэтров. Когда узнаю, что мнения знаменитостей субъективны, неожиданны, зависят от сиюминутного настроения, я пойму и то, что редко кто из больших талантов обладает естественной доброжелательностью. Я приехал, втянулся в привычную жизнь: продолжал петь, занимался с Сусанной Аркадиевной Микаэлян, сочинял пьесы и романсы, делал инструментовки, музицировал в кругу друзей. Стихия молодого человека, который делает то, что ему нравится. В те же годы меня приметил превосходный виолончелист, профессор Бакинской консерватории Владимир Цезаревич Аншелевич, о котором не однажды лестно отзывался и Мстислав Ростропович. Меня и поразило, и смутило необычайно эмоциональное отношение профессора к моим вокальным данным: «Голос у тебя дай Бог!» Но тут же Аншелевич назвал мой главный недостаток: я пою так, как будто хочу убить всех своим звуком. На что я с некоторой бравадой подтверждал этот свой изъян: «Да, я хочу петь как итальянцы. У итальянцев именно такие голоса, с напором». — «С напором петь хорошо, но певцу надо быть музыкантом. Петь как инструмент, например как виолончель. Она ближе всего к человеческому голосу». И профессор Аншелевич стал безвозмездно, может быть, ради любви к делу, ради творческого интереса, давать мне уроки. Занимались мы месяцев пять. Он не вмешивался в вокал, не ставил голос (это было заботой Сусанны Аркадиевны), а показывал, как филировать голос, убирать звук, учил обращать внимание на ремарки автора. Если пиано, то и надо петь пиано, если меццо-форте, то именно так, а не иначе. А если, скажем, крещендо, то и надо усиливать звук без срыва, плавно. Всем этим техническим премудростям он учил меня долго и терпеливо. Это позже, как следует поучившись, я позволял себе вольности с авторскими пометками, а тогда это была необходимая школа. Я действительно грешил форсировкой звука, думал: чем громче, тем эффектнее. Я подражал пластинкам: Энрико Карузо и Титта Руффо так филировали, так расправлялись со всеми этими мордентами, трелями и прочими фиоритурами, что, кажется, ни один нынешний певец уже не сможет сделать это. У прежних итальянских мастеров были божественные учителя. Они учили вокалиста конкурировать в чистоте звучания с музыкальным инструментом: петь, как играть, не смазав ни одной ноты. Со временем это ушло. Сейчас всех певцов, кого не лень, называют мастерами бельканто. Но ведь эта манера пения кончилась еще до Карузо. Последними мастерами (белькантистами) были кастраты. Юношей кастрировали, чтобы голос оставался высоким и легким. Юноши взрослели, крепли физически, а голос оставался прежним. Кастраты были подобны духовикам-виртуозам, голос-флейта. С мужской силой они делали со своим голосом все, что хотели. Старинные композиторы писали в расчете именно на такие инструментальные голоса. Карузо один из первых, кто стал петь мощным (некастрированным) мужским голосом. А школа у него оставалась старая, инструментальной чистоты звучания. Поэтому, когда Карузо в финале песенки Герцога делает последнюю каденцию, нисходящую гамму, а потом тут же восходящую, сердце замирает. Когда-то я пытался приблизиться к этому. Сейчас, увы, грешен. Мажу.