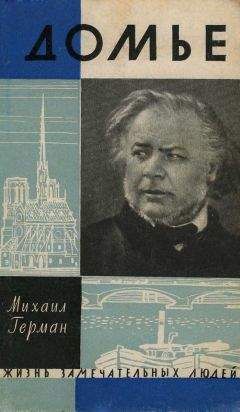Работа Жанрона была не единственным полотном, посвященным июльским дням. Таких картин оказалось больше тридцати. Но ни одна не могла сравниться со «Свободой на баррикадах» Делакруа. Того самого Делакруа, который шесть лет назад поразил Домье своей «Резней на Хиосе». Оноре подумал, что художник, прежде искавший тем в средневековых легендах или в трагических эпизодах греческих восстаний, наконец, нашел себя. В этом огромном холсте было что-то от старых мастеров — такое же мужественное величие, мощь кисти. И вместе с тем в картине оживали подлинные июльские дни с их солнцем, смертью и дымом выстрелов. И фигура сказочной Свободы с трехцветным знаменем казалась здесь реальной и необходимой — она была живым воплощением народной борьбы. А как была написана картина — мастерской кистью, то едва задевающей холст, то оставляющей на нем нарочито грубые мазки чуть тусклых, словно смешанных с порохом красок.
Возле картины все время толпился народ, перед ней стояли подолгу, как бы заново переживая дни революции. Громко восхищались ее героями. Пожилой бакалейщик воскликнул, любуясь фигурой мальчика с пистолетом:
— Черт возьми! Эти мальчишки бились, как великаны!
Другой зритель, очевидно аристократ, но одетый нарочито скромно, чтобы не бросаться в глаза, негромко говорил своей дочери, чуть улыбаясь краями губ:
— У настоящей богини, милое дитя, обычно нет рубашки, и оттого она очень зла на тех, кто носит чистое белье…
«Вот искусство, не оставляющее равнодушным ни врагов, ни друзей», — подумал тогда Домье.
На выставке он видел самого Делакруа. Художник неторопливо шел по залу, держа у локтя ослепительный цилиндр и сдержанно наклоняя голову в ответ на почтительные приветствия. На его чуть скуластом лице не отражалось ничего, кроме легкой скуки. Но Домье смотрел на него с восхищением и обожанием, прощая ему и надменный вид и манеры светского льва. Ведь это был настоящий, большой художник, равного которому, пожалуй, не нашлось бы сейчас во Франции.
Все же Оноре не мог избавиться от чувства, что картина эта целиком принадлежит прошлому, хотя не минуло еще и года с июльских дней. Он усмехнулся: быть может, Делакруа ошибся, не изобразив и Свободу в числе павших бойцов. Впрочем, тогда все верили, что она останется жить, и за нее умирали.
Оноре давно расстался с иллюзиями, но сейчас, под свежим впечатлением «Свободы на баррикадах», он вновь ощущал, как далека сегодняшняя реальность от надежд июльских дней.
Домье вышел на площадь Согласия. Близились сумерки. По проспекту Елисейских полей неслись, обгоняя друг друга, легкие, как бабочки, экипажи. Они уносили своих хозяев к подъездам лощеных, особняков, в прохладные аллеи Венсеннского леса. Звонко цокали копыта кровных лошадей, развевались перья, кружевные шарфы; молодая зелень отражалась в лакированных кузовах карет.
Это зрелище, так хорошо знакомое Домье, показалось ему сегодня чем-то отталкивающим и неуместным. Словно не было год назад выстрелов и крови, словно сотни людей не погибли на улицах Парижа. Но все так же нарядны бульвары, все так же угрюмы нищие, все так же голодны рабочие. Сколько июльских героев лишились работы и почти умирали с голоду! Многие из них остались калеками. А что изменилось вокруг? Только имя короля да цвет государственного флага.
Он мерно колыхался над крышей палаты депутатов — трехцветный флаг Франции. Еще совсем недавно он будил надежды и воскрешал в памяти славные дни Конвента. Казалось, гнет и несправедливость канули в вечность вместе с обветшавшими бурбонскими лилиями. Но Бурбонская династия, по сути дела, осталась[2]. А сине-бело-красный флаг, покинув баррикады и обосновавшись на крыше палаты депутатов, превратился из боевого знамени в удобную вуаль, за которой прятались отнюдь не республиканские дела. Не так давно здесь был принят новый избирательный закон. Право голоса получили лишь самые состоятельные люди — меньше двухсот тысяч человек из тридцати миллионов французов.
Герои, которых изобразил на своей картине Делакруа, избирательных прав не имели — они не вошли в число тех, кого иронически называли «легальной Францией».
Да, все это было совсем не похоже на гордую Свободу, фигура которой. еще стояла перед глазами Домье.
Побывав на выставке, Оноре вновь испытывал острое недовольство собой. Двадцать три года, а ничего еще не сделано. У него нет даже собственного почерка, он ничего не умеет делать, кроме забавных картинок.
Через несколько дней он начал первую свою литографию, где было больше горечи, чем улыбки. Мысли, томившие Домье последнее время, обрели реальное воплощение.
Рабочий, искалеченный на июльских баррикадах, доведенный до отчаяния нуждой и голодом, готовится броситься в Сену с камнем на шее. На нем сюртук, сшитый из ломбардных квитанций, по которым можно прочесть повесть отчаянной бедности.
Но человек в нелепой бумажной хламиде не возбуждал смеха. Это было неожиданно для самого Домье, обычно он делал свои рисунки смешными. Фигуру безногого калеки, застывшую в горестной неподвижности, свесившуюся на лоб прядь волос, судорожно сжатые руки Оноре нарисовал нервными, ломкими, скупыми линиями. Получился жуткий и саркастический эпилог «Свободы на баррикадах».
Домье назвал свою литографию «Июльский герой. Май 1831 года». Эта хронологическая пометка придавала рисунку особенно убийственную иронию. Именно в мае Луи Филипп собирался раздавать медали ветеранам июльских боев, требуя при этом присяги в верности своей особе.
Как ни раздражала по временам Домье работа над литографией, все же она обладала великим достоинством — тиражом. Когда Оноре видел своего «Июльского героя» в витринах магазинов в разных концах Парижа, видел хмурые глаза зрителей, в которых отражались его собственные мысли, он чувствовал себя вознагражденным за минуты сомнений и тоски по «большому искусству».
Предметы, о которых здесь толкуется, не так шутливы, как утверждало заглавие.
Рабле
Холодный ветер раскачивал на Новом мосту шипящие газовые фонари и гнал вдоль набережной последние сухие листья. Домье приходилось крепко держать руками цилиндр, чтобы шаткий символ его респектабельности не улетел в Сену.
Экипажи с грохотом съезжали с моста и, блеснув на мгновение фонарями, уносились к центру города, туда, где за сумрачной громадой Лувра мерцало зарево бесчисленных огней вечернего Парижа. Шел восьмой час ноябрьского вечера, холод ощутимо проникал под тонкий сюртук. Оноре поднял воротник и ускорил шаги. Он с удовольствием думал о предстоящих встречах. Недавно его литографии стал покупать художественный магазин Обера. С тех пор Домье нередко навещал знаменитое заведение, бывшее своего рода клубом, где собирались известные художники, журналисты, литераторы.