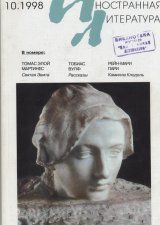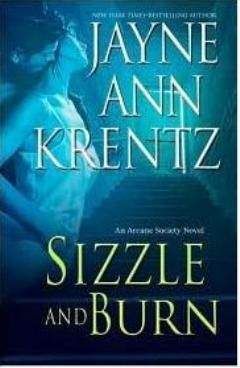Ожесточенная клевета в наш адрес по поводу госпитализации Камиллы в Виль-Эврар со стороны Лельма и Тьерри в “Авенир де л’Эн” и разных скандальных листках, обличающих “клерикальное преступление”. Это хорошо. Меня столько незаслуженно хвалили, что клевета благотворно освежает: это нормальная доля христианина.
Позже в предисловии к каталогу выставки 1951 года он поменяет даты, перенеся госпитализацию на июнь 1913-го (намеренно?).
А запал этой пороховой бочки подожгла сама Камилла. 10, 14 и 21 марта она собственной рукой написала карандашом три письма своему родственнику Шарлю Тьерри — первое из них как раз в день госпитализации.
10 марта
Дорогой Шарль,
от тебя узнала о смерти папы; впервые слышу, мне никто ничего не сообщал. Когда это произошло? Постарайся узнать и рассказать мне поподробней. Бедный папа никогда не видел меня такой, как я есть; ему всегда внушали, что я — существо гнусное, неблагодарное и злобное; это было нужно, чтобы другая могла все зацапать.
Я должна была поскорее исчезнуть, хоть я и ужимаюсь как могу в своем уголке, все равно остаюсь помехой. Меня уже пытались запереть в сумасшедший дом, опасаясь, как бы я не нанесла ущерба маленькому Жаку, потребовав свою долю, и заперли бы, имей я несчастье туда явиться. Луиза при поддержке своего друга Родена наложила руку на все деньги, принадлежащие семье, а поскольку я всегда нуждаюсь в деньгах, пусть совсем небольших, мне ведь так мало надо, то меня и ненавидят, когда я что-нибудь прошу. Все это нарочно подстроено, потому что, ты знаешь, Луиза водится с протестантами.
Поехать в Вильнёв я бы не посмела; и потом, надо еще иметь такую возможность; у меня нет денег, даже туфель нет. Я ограничиваю себя в еде; горе в этом помогает. Если ты что-нибудь знаешь, сообщи мне; писать не рискую, от меня отмахнутся, как обычно. Меня удивляет, что папа умер; он должен был жить до ста лет. Что-то за этим кроется. Дружеский привет тебе и Эмме.
К-Милла.
14 марта
Дорогой Шарль,
то мое письмо было, можно подумать, пророческим, потому что, едва я его отправила, за мной приехал автомобиль, чтоб отвезти в приют для умалишенных. Приют находится, по крайней мере я так полагаю, в Виль-Эврар. Если ты соберешься меня навестить, можешь не торопиться, потому что не похоже, чтобы я отсюда вышла; меня держат и не хотят отпускать. Коли ты можешь привезти портрет тети, чтобы он составил мне компанию, это бы меня очень порадовало. Я, наверно, покажусь тебе неузнаваемой — тебе, видевшему меня такой молодой и блистательной в салоне Шакриза…
21 марта
Дорогой Шарль,
не представляешь, какое удовольствие ты мне доставил, прислав портреты тети и г-жи де Жэ; я теперь с ними не расстанусь. Бедные женщины, они были такие добрые, такие скромные; с ними было так хорошо. Ах! будь они живы, я не была бы такой, как сейчас; у них было доброе сердце. Ты очень добр, что пошел ради меня на такую жертву. Ты всегда готов сделать мне приятное. Совсем как твоя мать; если б ты по-прежнему жил в поместье, я бы тут же перебралась к тебе в Шакриз. Забудь все это.
Если б Жанна была жива, уж не знаю, что с ней случилось, я не стала бы такой, она была очень добра ко мне. Ты знаешь, Альфред живет совсем близко отсюда, в Павийон-су-Буа. А в Монтрёй-су-Буа — Поль де Кукборн, друг г-на де Марси. Они приходили ко мне в мастерскую. Жду с нетерпением свидания с тобой, хоть и в такой печальной обстановке.
Я не могу быть спокойна, не знаю, что со мной станется; думаю, все идет к тому, что я плохо кончу, все это кажется мне подозрительным, будь ты на моем месте, ты бы понял. Стоило так много работать и обладать талантом, чтобы получить вот такую награду. Никогда ни гроша, всевозможные издевательства, и так всю жизнь. Быть лишенной всего, что делает жизнь счастливой, и вдобавок вот чем кончить.
Помнишь бедного маркиза дю Совенкура из Шато-де-Мюре, твоего бывшего соседа? Он только сейчас умер, проведя в заточении 30 лет! Ужасно, в голове не укладывается. Всего, всего хорошего твоей милой Эмме, дочке и всем детям; посылаю тебе дружеский привет…
Если Камилла Клодель была в здравом уме, как утверждает Вибер, то ее изоляция бесчеловечна, незаконна и преступна. Как же обстоит дело в действительности? Первые признаки душевного расстройства проявились у Камиллы в период ее разрыва с Роденом, около 1893 года. Матиас Морхардт, пламенный поклонник художницы, в своем замечательном этюде в “Меркюр де Франс” отмечает ее склонность к уединению и недоверие к посторонним. Эта тяга к затворничеству беспокоила и ее отца. В 1904 году он не решался принять приглашение своей родственницы Мари Мерклен отдохнуть в сентябре в Жерарме, опасаясь оставлять Камиллу одну: “Вы очень добры, но у меня душа будет не на месте, если я оставлю Камиллу в этой самоизоляции”.
Есть и другие свидетельства, в том числе доктора Мишо, и оно представляет тем больший интерес, что он — сын того доктора Мишо, который выдал свидетельство, послужившее основанием для госпитализации Камиллы. Речь идет о письме к профессору Мондору от 18 декабря 1951 года.
Несколько месяцев назад я прочел вашу книгу о Поле Клоделе. Глава, посвященная Камилле Клодель, пробудила во мне воспоминания детства. Камилла Клодель жила в нижнем этаже дома 19 на набережной Бурбон, в котором пятьдесят пять лет занимался медицинской практикой мой отец. В глубине двора был сад, принадлежавший Морису Мендрону и видавший немало академических обедов под эгидой Эредиа. Двор был местом моих игр. Родители запрещали мне ходить к Камилле Клодель, с которой мы были в каком-то отдаленном родстве. Они боялись пускать меня в это логово, где между бюстами, заросшими девственным лесом паутины, шныряла добрая дюжина кошек.
Но соблазн запретного плода, подкрепляемый моей любовью к кошкам и обещаниями угостить вареньем, побуждал меня преступать запрет. Там я получил первые уроки психиатрии, и всякий раз, как говорю или пишу о параноидальном психозе, не могу не вспоминать мою соседку, простоволосую, в белой кофте, толкующую об “этом мерзавце Родене” — последний рисовался моему десятилетнему воображению неким мифологическим персонажем.
Достаточно также почитать последние письма Камиллы Клодель на свободе и те, что она писала в приюте, причем в первые месяцы пребывания там, когда рано говорить о заразительном влиянии долгого общения с сумасшедшими, чтобы убедиться в разрушительном воздействии навязчивой идеи о роденовских интригах: весь мир ее преследует, миллионные состояния (в миллионах 1913 года) наживаются на ее работах. Очень показательны выдержки из письма, написанного брату Полю где-то около 1910 года:
Не вози мои скульптуры в Прагу, у меня нет ни малейшего желания выставляться в этой стране. Публика такого пошиба меня нисколько не интересует. Хотелось бы поскорее получить премию за “Аврору”, пусть всего пятнадцать франков, я бы ее забрала в следующем месяце и попыталась продать. Пришли мне ее как можно скорее. Ты прав, закон бессилен против господина Эбрардта и подобных ему бандитов, единственный аргумент для таких людей — револьвер. Вот это было бы дело, потому что, учти, если оставить безнаказанным одного, это придаст наглости другим, которые бессовестно выставляют мои работы и делают на них деньги под руководством господина Родена. Но всего забавнее то, что он позволил себе выставить в прошлом году в Италии “Аврору” — вовсе не мою, но с моей подписью — и добился для нее золотой медали, чтобы поиздеваться вдоволь.