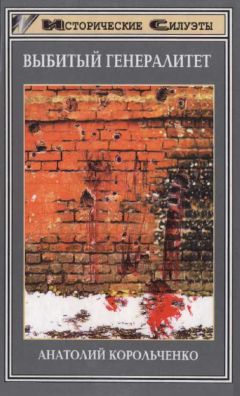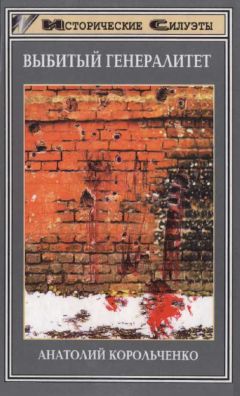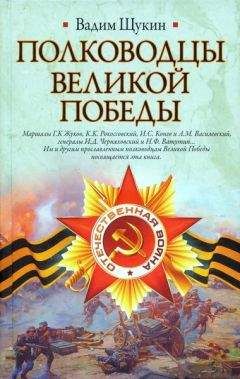Подошло время обеда, был объявлен перерыв, и подсудимых под охраной провели в специальное помещение, подали в металлических мисках похлебку, кашу. И вчерашнему, разжалованному маршалу досталась алюминиевая ложка с перекрученным черенком и выцарапанной фамилией неизвестного владельца.
Потом их отвели в комнату ожидания, и здесь к ним поспешили следователи. Возле Тухачевского оказался Ушаков.
— Михаил Николаевич, вы держали себя достойно, только не возражайте, если опять будут спрашивать. И в своем последнем слове просите о снисхождении. Это поможет.
И опять зал, скамья за барьером.
— Встать! Суд идет!
Заседатели, словно спохватившись, вдруг стали задавать, порой невпопад, вопросы, недвусмысленно обвинять всех во враждебной деятельности.
Глядя на вчерашних соратников, Михаил Николаевич с трудом скрывал удивление: «Что с ними? Неужели они не понимают, что все это — грандиозный спектакль, не понятно кем и для кого устроенный». Допрос, однако, продолжался.
И вот, наконец, он закончился. Суд определил истину и степень вины каждого. Да вины ли?
— Подсудимый Тухачевский. — обращается Ульрих, — вам предоставляется последнее слово.
Михаил Николаевич готовился к нему, наметил даже, что сказать, но едва он встал, как боль снова охватила голову железным обручем. «Чертова боль!.. Вот она отходит… отпускает… Только бы не началась снова…»
— Председательствующий, члены Присутствия, боевые мои сподвижники… Обращаясь к вам, я честно заявляю, что у меня была горячая любовь к Красной Армии, горячая любовь к Отечеству, которое защищал с гражданской войны. И потом, на каких должностях бы я не находился, старался честно и достойно защищать интересы страны и интересы родной армии. Что касается встреч, бесед с представителями различных стран, и в том числе немецкого генерального штаба, их военного атташе в Советском Союзе, то они, действительно, были, но носили официальный характер, происходили на маневрах, приемах. Немцам показывалась наша военная техника, они имели возможность наблюдать за изменениями, происходящими в организации войск, их оснащении. Впрочем, такую возможность имели и мы и поступали точно так же. Но все это было до прихода Гитлера к власти, когда наши отношения с Германией резко изменились.
Его выступление находящиеся в зале воспринимали по-разному. Ульрих чертил что-то с отсутствующим видом на бумаге. На лицах многих заседателей застыла напряженность. Затаилась усмешка на губах Буденного. Строчил в тетради секретарь, пытаясь уловить последнюю мысль подсудимого, его последние слова. Впрочем, все равно потом его записи проверят и отредактируют… Ушаков слушал, нервно покусывая губы.
— Конечно, в моей работе были ошибки, недостатки, большие и малые, не признать их нельзя. И я признаю за это вину. Но никак не могу согласиться с тем, что они сделаны умышленно, что причислило бы меня к шпионам, предателям, врагам народа. Пусть люди знают, что я честно жил и честным приму каким бы оно ни было обвинение настоящего суда.
Он сел, чувствуя в теле такую слабость, словно сбросил с плеч стопудовый груз.
И выступления остальных были короткими. Даже Эйдеман, признанный поэт и умница, который часами мог декламировать с легким латышским акцентом свои стихи, на этот раз оказался косноязычным и сдержанным.
— Прошу сохранить жизнь.
Стрелки часов показывали 23 часа 36 минут, когда Ульрих закончил читать приговор.
— Приговор окончательный и обжалованию не подлежит, — висело в мертвой тишине пустого зала.
Было слышно, как Ульрих захлопнул папку, кто-то из сидевших за длинным столом громыхнул тяжелым стулом, кто-то с опозданием подавил вырвавшийся сон.
— За что? — Якир непонимающе уставился на военного юриста. Но его не слышали.
В окружении конвойных осужденных вывели из-за барьера, провели отдельным ходом к «черному ворону».
Они сидели, ошеломленные произошедшим, никто не проронил ни слова. Лишь когда автомобиль остановился и снаружи послышался металлический лязг открываемых тюремных ворот, кто-то определил:
— Лефортово.
Это была знаменитая московская тюрьма, известная строгостью режима и глухотой каменных стен.
И была последняя ночь.
Тухачевского провели в камеру с решетчатым окном, заделанным снаружи металлическим щитом, с парашей у двери и топчаном со свалявшимся матрацем. Под потолком ярко светила лампочка.
Он лег на топчан, пытаясь осмыслить пережитое. «Высшая мера наказания… Расстрел… Приговор окончательный, обжалованию не подлежит… Не подлежит…» — остро били слова приговора.
Это конец. Его уже никто и ничто спасти не сможет. Теперь он весь — в прошлом. И прошлое, вся его жизнь, волнения, тревоги, дела — стали неожиданно далекими, серыми, будничными.
Назойливо светила лампочка, и он прикрыл лицо руками, призывая самого себя к успокоению, к, возможно, еще зыбкой, как огонек свечи, надежде, что все обойдется, что кто-то внесет ясность. Ведь миновала же его смерть, когда он поднимал в атаку солдатские цепи! И в побегах из плена косая пощадила его. В 18-м году он был бы расстрелян, но остался жив.
Потом он впал в забытье и ему почудилось, будто лязгнул засов двери и кто-то вошел и остановился подле него.
Он отвел от лица руку, огляделся: нет, камера пуста. «Неужели галлюцинация?..»— «Сын мой, послушай меня, внемли Божьей воле». — «Кто ты?» — спросил он склонившегося над ним в черной сутане. Длинные седые волосы обрамляли немолодое благообразное лицо. Серебрился большой крест с изображением распятого Христа. «Кто ты?» — спросил он снова. «Я тот, кто по воле Божьей пришел, чтобы облегчить твою душу. Настал час избавления от грехов, лежащих тяжким камнем. Покайся, сын мой, в грехах своих, отрекись от них, и ты избавишься от страдания, пред уходом в мир иной». — «Мне не в чем каяться. Я жизнь свою и помыслы отдал великому делу освобождения народа от…» — «Не надо громких и фальшивых слов, они не твои, не повторяй чужих мыслей. Внемли моим словам: отрекись от того, что терзает совесть и душу. Очисти душу свою от скверны, и тебе станет легче». — «Я не творил ничего грешного». — «О, нет! Творил, сын мой! Были! И малые грехи, которых ты не замечал, и тяжкие, с людской невинно пролитой кровью. Их трудно простить, но Бог простит, если ты покаешься».
Незримый пришелец говорил с такой убежденностью, что противиться было невозможно.
«Хорошо, святой отец, я попытаюсь. Только мне тяжко. Я устал за эти дни. Трудно вспомнить».
Повинуясь странному пришельцу, Михаил Николаевич затих, стараясь вспомнить прошлое. И тут вдруг перед ним замаячил образ большеголового, с чуть пробивающимися усиками юнкера Яновского, балагура и любимца роты. Он стоит перед ним, фельдфебелем роты Тухачевским, одногодком и в прошлом товарищем, и просит его дать увольнение в город.