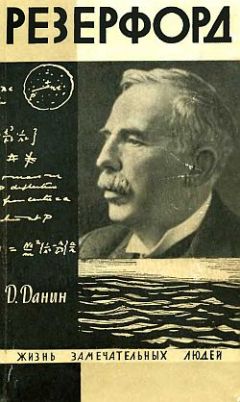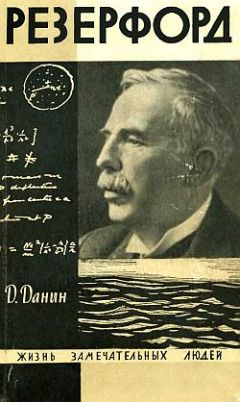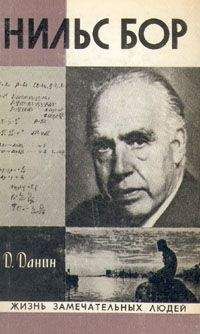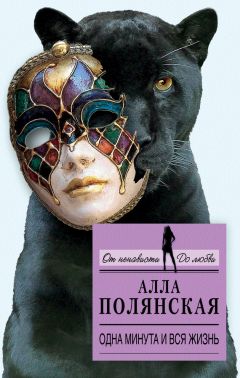Нельзя было придумать места, менее подходящего для заседаний, чем ассистентская. Захламленная дыра. Склад приборов для физических и химических демонстраций на лекциях Биккертона. Наклонная плоскость с набором шаров. Рамы с маятниками. Штативы и колбы. Банки с реактивами. Разъятые диски электростатической машины. Линзы. Экраны. И многое другое — громоздкое и малое, мудреное и простое. Можно было подумать, что колледж существует уже сто лет и сто лет копит это добро. Пока участники заседания устраивались на узких столах, бесцеремонно сдвигая в сторону утварь мистера Пэйджа, Эрнст новыми глазами оглядывал это скромное богатство. Сейчас он видел в нем нечто большее, чем инструментарий лектора. Ему подумалось, что в окружении научных приборов более веско прозвучит то, что он сейчас скажет.
— Тише, господа, тише! — снова сказал он негромко. И, прислонясь спиной к двери, заговорил сдержанно и серьезно.
Он заговорил о стиле работы их общества. Прежде этот стиль его привлекал. Теперь ему не все нравится. Что значит — прежде и теперь? Если это непонятно, он объяснит…
Как ни молодо их общество, оно уже имеет свою историю. Он из числа ветеранов. Для него «прежде» — это первые годы в колледже. Он был на втором курсе, когда общество возникло. А что такое второй курс? Студенческое детство. Потом был третий. Это уже молодость. Ныне он, как и большинство здесь присутствующих, приближается к старости. Вот что значит для него «теперь». Начало старости, господа, начало старости!
Он улыбнулся. Слушали его хорошо. Ему кивнул одобрительно Мэррис, почувствовавший, что Эрнст ничего не растерял на последних каникулах в Пунгареху. А он уже в непринужденной позе привалился к двери, скрестил ноги и продолжал размышлять вслух, точно здесь впервые все это приходило ему в голову. Казалось, ему не хватает стебелька формиумтенакса, чтобы мимолетно покусывать травинку, — так свободно он продолжал свою речь.
…Но молодость и старость это разные вещи. Коллеги его понимают? Молодость менее требовательна. Ее легче обмануть. Вернее, она легче обманывается. Громкими научными темами, например. Или когда в дискуссии чувствуешь себя по меньшей мере сэром Ньютоном или лордом Кельвином. А на самом деле оглушаешь себя и других весьма нелепыми мировыми законами собственного изготовления. Собравшиеся знают, что он говорит не с чужих слов. Он уже побывал здесь однажды сэром Исааком. Прежде его это тешило, теперь смешит. Ему хочется, чтобы все они побывали в шкуре исследователей. Не просто спорщиков, а исследователей. Старческая мудрость заставляет его призвать общество к дисциплине. Нет, речь идет не о шуме. Он не педель. Он говорит о дисциплине научного мышления. Есть профессора, которые хотят, чтобы студенты были рабами учебников. Общество избегло такой крайности. Но впало в другую, господа, впало в другую…
Он приостановился. Вот оно, предательство! Сейчас он скажет неодобрительно о влиянии «других профессоров». И это прозвучит антибиккертоновски. Ему захотелось во что бы то ни стало сдержать себя.
…И вот последний пункт, на который он должен обратить их внимание. Им следует быть в науке на уровне века. Для этого и существует общество. В Философском институте он взял на каникулы журналы, пришедшие из Англии. Ему нелегко было их читать. К сожалению, они, студенты, мало знают о новых теориях и экспериментах. Например, опыты некоего Майкельсона в Чикаго. Эти опыты убеждают, что скорость света, как ни странно, не зависит от скорости движения самого источника света. Интересно, что это значит? Он надеется, что кто-нибудь из членов общества сделает на эту тему сообщение. Другой пример: немецкий физик доктор Генрих Герц доказал реальное существование электромагнитных волн, распространяющихся в пространстве, как предсказал сэр Джемс Кларк Максвелл. Замечательное открытие! Поувлекательней их гаданий на кофейной гуще. Он берет на себя доклад об опытах доктора Герца. И рассчитывает сопроводить свое сообщение убедительными экспериментами. И вообще он полагает, что они должны вести свои дискуссии вокруг реальных научных фактов. Реальных, господа, реальных!
Он напрасно думал, что его речь не станет темой для споров. Но он не защищался. Он только сказал в конце, что у секретаря, кроме обязанностей, есть права. И предупредил, что намерен пользоваться ими, не боясь обвинений в деспотизме. Да, да!
Когда покидали пыльную духоту ассистентской, у него было хорошее настроение. Он уходил последним. Присел к столу — сделать секретарскую запись в дневнике Научного общества. Но воспроизводить только что произнесенную речь на бумаге не захотелось. Скучное занятие. Он спешил увидеться с Мэри Ньютон. «Ньютон, — повторил он про себя, — сэр Исаак…» И улыбнулся. И начертал в дневнике всего две строчки. Они сохранились:
«Так как в нормальном человеческом помещении было холодно, общество перенесло свое заседание в местопребывание м-ра Пэйджа».
Домой, в пансион, его погонял леденящий ветер с зимнего океана. Он думал все о том же. И вдруг пожалел, что слишком грубо сказал о «рабах учебников», когда намекнул на педантические требования Кука. В сущности, он предложил обществу путь, выбранный им для себя. А этот путь, подумал он, просто равнодействующая между Биккертоном и Куком.
11
Цепь его университетских успехов продолжала вытягиваться — звено за звеном. Четвертый курс принес ему следующее ученое звание — магистр искусств. Но всего существенней была его победа на магистерских экзаменах.
Это была редчайшая победа. Двойная. Он удержал свое первенство по математике. И вместе с тем к нему перешло от студента Чисхолма из Данедина общеуниверситетское первенство по физике. Его имя повторяли во всех трех колледжах Новозеландского университета. «Слышали вы о первоклассном дубле этого Резерфорда из Кентербери?» — «Еще бы! Как говорится, старожилы не припомнят». — «Очевидно, превосходный парень. Верно ли, что из фермерского дома?»
То была первая маленькая слава, его посетившая. Он становился надеждой не только матери и отца, братьев и сестер, Мэри Ньютон и Биккертона. Он становился надеждой Новой Зеландии. И всеми было воспринято как нечто само собой разумеющееся, что магистр искусств Эрнст Резерфорд остается в колледже на пятый год.
Для большинства студентов последним был четвертый курс. Стать магистрами искусств составляло предел их желаний. И по окончании четвертого курса они покидали университет навсегда. За воротами колледжа их поджидала теперь не вольная воля летних каникулярных забав, а бессрочная свобода-несвобода взрослой самостоятельной жизни. Поиски выгодной службы, обзаведение собственным домом, погоня за чинами и высоким достатком…