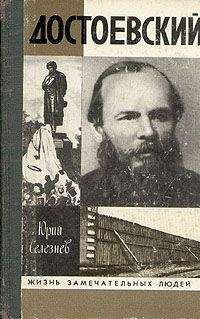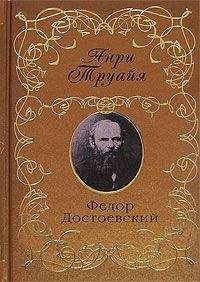Наблюдая за работающим Достоевским, Варвара Васильевна невольно думала о том, как, должно быть, глубоко страдает этот человек оттого, что слишком многие его не понимают, перетолковывают на свой лад, передергивают его идеи. Работая, он часто мрачнел, но вдруг, бывало, оторвет глаза от своих листков или корректуры и ни с того ни с сего скажет:
— А как это хорошо у Лермонтова:
Уста молчат, засох мой взор.
Но подавили грудь и ум
Непроходимых мук собор
С толпой неусыпимых дум...
Это перевод из Байрона, но у Лермонтова глубже вышло:
Этого нет у Байрона. Целая трагедия в одной строчке. Молчком про себя. Одно это слово «собор» чего стоит! Чисто русское...
Увлекался и вполголоса читал «Пророка» Пушкина, потом — Лермонтова... И сам делался похож на какого-то древнего провидца — глаза загорались, глуховатый голос напряженно набирал высоту.
Однажды им пришлось проработать над номером целую ночь. Варвара Васильевна записала: «...этот чердак — так называлась редакционная комнатка в мезонине типографии, — общий умственный труд, полное уединение с глазу на глаз с таким писателем, как Достоевский, — во всем этом была для меня какая-то особенная духовная красота, какое-то ни с чем не сравнимое упоение... Он курил, — он всегда очень много курил, — и мне видится до сих пор его бледная и худая рука с узловатыми пальцами, с вдавленной чертой вокруг кисти, — быть может, следами каторжных кандалов, видится, как рука эта тушит докуренную толстую папиросу... Мне видится, как лампа начинает постепенно меркнуть, и бледный утренний свет заливает всю комнату, и как Федор Михайлович, положив ногу на ногу, охватив колено руками... говорит своим напряженно глухим грудным голосом:
— Вот мы с вами сидим тут, на этом чердаке, работаем до белого дня, а сколько людей теперь веселятся беспечно вокруг нас! И в голову им даже никогда не придет, что вот вы — молодая, а не променяете вашей жизни на их...
Меня волновал его голос и волновали слова... я думала не о себе, а о нем — о красоте душевной этого человека... Знаменитый писатель, больной — и по доброй воле делил теперь со мной эту тяжелую жизнь, чтоб облегчить хоть на миг для меня ее гнетущую тяжесть. Он внушал мне в эти минуты благоговение и любовь без границ. И это было такое могучее, радостное чувство подъема и веры в себя и в людей и благословения этой трудной, тяжелой, но истинно человеческой жизни!..»
...Анна Григорьевна не просыпалась, и он все еще не решался будить ее — видно, вею ночь не спала, придремнула лишь на рассвете. Да, огорчил он ее. Огорчил и напугал. 81-й начался для них счастливо, Федор Михайлович наконец надолго почувствовал себя бодро, и даже когда два дня назад, ночью 26 января, у него вдруг пошла горлом кровь, он особо не встревожился, крови вышло немного, и он, не почувствовав заметного ухудшения состояния, как и сейчас, не стал будить жену и рассказал ей о случившемся лишь на следующий день. Анна Григорьевна тем не менее встревожилась не на шутку и, не тратя времени на уговоры, послала за Яковом Богдановичем Бретцелем, их постоянным врачом. Федор Михайлович шутил, играл с детьми, но, когда собрались обедать, он вдруг осел тяжело на диван, по его подбородку побежала тонкая струйка крови, дышать стало трудно...
Теперь он припоминал, дышать стало трудно еще с начала 74-го: появилась сильная хрипота при дыхании, но тогда он слишком не встревожился, и без того было о чем заботиться, и он знал почти наверняка свою погубительницу — проклятую эпилепсию, дело только во времени, — так что на остальные хвори всерьез и не смотрел. Начал, правда, тогда же лечиться от одышки сжатым воздухом в лечебнице доктора Симонова, но куда серьезнее беспокоило его другое: все труднее дышалось ему, как бы это сказать, — общественно, что ли? Для одних он слишком «правый», для других слишком «левый», одни ругают почем зря — зачем он не прогрессист, не либерал, не нигилист; другие пытаются сделать из него воинствующего или хотя бы лояльного сторонника административно-правительственной политики... Нет, господа, он не нигилист, не прогрессист, но он и не реакционер, и не официальный деятель; он — Достоевский, и этим все сказано. Пристают: каково же тогда ваше направление? Да не читают они его совсем, что ли? — Мое направление-то, за которое не дают чинов, господа, ни официальных, ни либеральных, — раздражался он нередко в последнее время. — А ваше направление, так сказать, сплетническое, господа газетчики, либеральные и официозные...
Дался им «Гражданин»! Он, Достоевский, и в нем и без него, сам по себе — гражданин, неужели так трудно хоть это-то понять... Журнал — серьезное материальное подспорье семье: деньги за романы тут же уплывают к кредиторам. К тому же «Гражданин» дает единственную возможность постоянного общения с читателями — через «Дневник». Правда, в последнее время давление князя Мещерского как хозяина-издателя стало принимать все более беспрекословную форму. Достоевский решительно воспротивился такого рода отношениям. Когда же Мещерский потребовал оставить в журнале забракованную Достоевским свою статью о необходимости полицейского надзора за учащейся молодежью, Федор Михайлович резко заявил: «Ваша мысль глубоко противна мне». А вскоре и вовсе подал заявление об освобождении его от обязанностей редактора «Гражданина» и с апреля снова стал свободен. В мае они всей семьей уехали в Старую Руссу. Иван Иванович Румянцев, не ждавший уже гостей, успел, правда, сдать домик другим жильцам; сняли новый, на самом берегу Перерытицы, у отставного подполковника Гриббе, Александра Карловича. Домик пришелся по душе: сад с беседкой в глубине, русская банька... Наконец-то у него снова появилось время бывать с детьми — купил им маленький детский органчик, под который, к немалому удивлению хозяев и соседей, устраивал кадрили с Любочкой, а то и с самой Анной Григорьевной вальсировал. Но особенно хорош был в мазурке и даже гордился, что отплясывает ее, как завзятый поляк. В такие минуты Федор Михайлович напоминал жене озорного ребенка, а дети, кажется, и вовсе принимали отца за ровесника-сотоварища. После обеда — непременно вместе с детьми и Прохоровной, нянюшкой маленького Феди, большой любительницей пропустить перед едой рюмочку, так что Федор Михайлович всегда звал ее: «Нянюшка — водочки!», что и служило всеобщим сигналом к обеду, — он выпивал обыкновенно еще одну-две чашки кофе и принимался рассказывать детям сказки и басни Крылова. Спать ложились по-провинциальному рано, с заходом солнца, отец благословлял деток на сон грядущий своим любимым еще с младенческих лет материнским благословением: «Все упование на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани под покровом Твоим», после чего уходил в свой кабинет. Работал, как всегда, до пяти-шести утра...