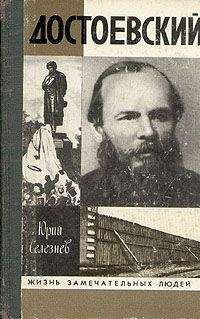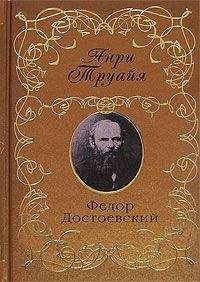Правда, как оказалось, III отделение не решилось «принять на себя ответственность за будущую деятельность этого лица», то есть Достоевского, однако Мещерскому удалось уладить дело, и Федор Михайлович приступил к обязанностям. Прежде всего подготовил несколько статей для первых номеров, сразу начав с пропаганды заветной своей идеи: в основе всего лежат начала нравственные. Главное, что хотелось ему провести через все статьи «Дневника», — убеждение: «Нам всего ожидать от народа: он только даст нам лучших людей. Но для этого нужны условия, при которых мог бы дать народ лучших людей».
С появлением на страницах «Гражданина» Достоевского тираж издания сразу же удвоился — это не могло не порадовать Федора Михайловича: значит, его знают и ценят, к нему прислушиваются. Но первые же отзывы в печати принесли огорчения: «Многие мысли и положения «Дневника» до того странны, что могли появиться только в болезненно настроенном воображении»; «И что за ребяческий бред...»; «Г-н Достоевский фигурирует в качестве то добродушно, то нервно брюзжащего и всякую околесицу плетущего старика...» — наперебой, словно стараясь перещеголять одна другую, писали газеты.
— А нам еще велят верить, что голос так называемой прессы есть выражение общественного мнения. Увы! Это великая ложь — пресса есть одно из самых лживых учреждений нашего времени, — утешал его Константин Петрович Победоносцев, намекая, что не дурно, а, напротив, весьма полезно для общества было бы закрыть кое-какие из так называемых прогрессивных органов, да и цензуре стоило бы построже следить за печатью.
Но утешения не утешали: он-то был убежден как раз в обратном: «Полная свобода прессы необходима, иначе до сих пор дается право дрянным умишкам не высказываться и оставлять слово с намеком: «дескать пострадаем». Таким образом, за ними репутация не только «страдальцев», «гонимых произволом деспотизма», но и умных людей. Предполагается добрым читателем, что вот в том-то, что они не высказали, и заключаются перлы. И пренеприятнейшим сюрпризом для них была бы полная свобода прессы. Вдруг бы они увидели, что ведь нельзя врать, что над ними все рассмеются, — и этот испуг был бы над ними посильнее цензуры...»
«Дневник этот может быть рассматриваем как комментарий к «Бесам», — высказался наконец сам Николай Михайловский, ведущий критик «Отечественных записок». Мысль сама по себе совершенно верная, соглашался Достоевский, — если б только «Бесы» были поняты правильно. Но пресса пишет о них не иначе как в духе того же «болезненно настроенного воображения» и «старческого бреда». Словно ни Нечаева, ни нечаевщины как бы и вовсе не было, ни «Катехизиса», ни убийства Иванова, — одним словом: на волка поклеп, а кобылу, мол, зайцы съели... И если б дело было только в самом романе. А то ведь чуть не в глаза признаются: нападки на «Бесов», в которых находят клевету на все русское прогрессивное общество и из которых фельетонисты и пародисты сделали для себя чуть не козла отпущения — в большой мере все-таки повод. А главная причина травли автора «Бесов» не в самих «Бесах», а в том, что он «продал» свое имя и свой талант реакционному «Гражданину». Между тем после прихода в него Достоевского журнал быстро попал в реестр неблагонадежных — пошли по инстанциям бумаги о «предосудительном направлении», посыпались цензурные предупреждения о закрытии «Гражданина», да и многие публикации в нем, теперешнем, действительно трудно было без предвзятости отнести к официозу. Вокруг имени Достоевского взвихрились чуть ли уже не постоянные эпитеты: «отступник», «изменник», «маньяк». Рассказывали, что многие специально ходят в Академию художеств, где выставлен его портрет, написанный Перовым, чтобы убедить себя и других в том, что на нем изображен сумасшедший. Правда, некоторые и возражали: мол, скорее уж мыслителем и пророком глядится на портрете писатель. Ну да сумасшедший, пророк ли — для большинства не все ли равно? Не утешали даже и редкие добрые вести и встречи, которые прежде вызвали бы восторг, — избрали его в члены Славянского благотворительного общества, побывал на выставке художников: понравились репинские «Бурлаки», «Остров Валаам» Куинджи, «Любители соловьиного пения» Маковского, но особенно перовские «Охотники на привале». «Что за прелесть! — Попробуй, растолкуй, хоть бы и немцу — так ведь не поймет, что это русский враль на картине и что врет он по-русски. Мы ведь почти слышим и знаем, об чем он говорит, знаем весь оборот его вранья, его слог, его чувства...» — поделился своими впечатлениями в «Дневнике». Но — мало у наших художников попыток найти и выразить идеал, — все больше к реальной, «как есть» действительности притяжение, а «идеал ведь тоже действительность. У нас как будто многие не знают того». Не понравилась ему и «Тайная вечеря» Ге: ну, разве же это Христос? — «Это, может быть, и очень добрый молодой человек, очень огорченный ссорой с Иудой... но, спрашивается: где же и при чем тут последовавшие 18 веков христианства? Как можно, чтоб из этой обыкновенной ссоры таких обыкновенных людей, собравшихся поужинать, произошло нечто столь колоссальное? Тут нет исторической правды, тут все происходит совсем несоразмерно и непропорционально будущему, и это уж вовсе не реализм...»
Познакомился с Еленой Андреевной Штакеншнейдер, хозяйкой одного из знаменитых литературных салонов Петербурга, дочерью преуспевающего архитектора Андрея Ивановича Штакеншнейдера. Случай свел и с известнейшим адвокатом и литератором Анатолием Федоровичем Кони: за публикацию не дозволенного цензурой материала о приеме императором киргизской делегации Достоевский был приговорен судом к двум суткам ареста на гауптвахте — на суде и познакомились и даже подружились.
И все-таки даже и эти добрые встречи не снимали нервного напряжения, создаваемого прессой, которая явно «давала знать», учила его уму-разуму, воспитывала его, как строптивого бурсака. Воспитывал по-своему и Победоносцев. Как-то пригласил на чай к себе домой, на Литейный. Человек суровый, непреклонно и педантично требовательный в делах государственных, служебных, в личной своей, домашней жизни, судя по всему, был он уступчив и даже нерешителен. О своих частных семейных делах — видно, не блестящих — никогда не заговаривал. В огромном его кабинете, сплошь заставленном книжными шкафами, за огромным же столом, заваленным книгами и рукописями, они и пробеседовали до полуночи, пока хозяин не вспомнил, что гостю ведь еще домой добираться по ночному-то Петербургу. Несмотря на июльское время, в доме было достаточно прохладно. Константин Петрович собственноручно укутал его теплым пледом и сам же пошел провожать — хороша же должна была быть картина, если б кто мог подглядеть: по темным лестницам, обняв одной рукой Достоевского, придерживая плед на нем, и со свечой в другой руке шествует член Государственного совета, воспитатель наследника престола, «русский Торквемада», тускло поблескивает стеклами очков, договаривает последние на сегодня слова увещеваний полунищему писателю, литературному пролетарию. «То-то увидал бы кто из либералов-прогрессистов!» — подумалось.