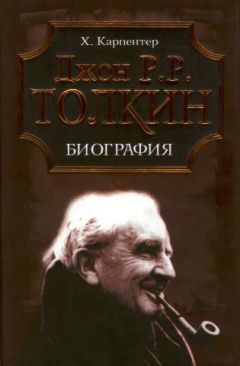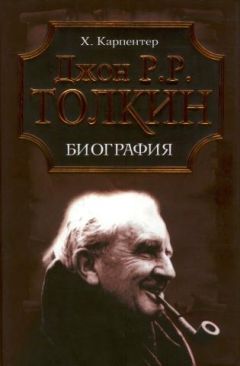На данном поприще особенно прославили себя двое: обитатель предыдущих страниц Михаил Магницкий и некий Дмитрий Рунич; они наводили «христианский» порядок соответственно в Казанском и Петербургском университетах; последний только что успел возникнуть в 1819 году, на базе Педагогического института – как на него обрушился Рунич.
И о нём и о Магницком по большинству комментариев может сложиться впечатление точно как о каких-то темнейших дикарях; а между тем оба чиновника были вполне образованными и неглупыми людьми, и уж вряд ли бы Сперанский стал терпеть близ себя умственное убожество. Однако, приходится с прискорбием констатировать непреложный факт: эти образованные люди сами заработали такие отзывы тем, что они вытворяли в подведомственных им университетах. Отчасти мотивы действий могли быть сугубо земными: Магницкий, в ссылке досыта натерпевшийся горестей и наконец-то дождавшийся того, что гнев сменён на милость, наверное, больше всего на свете боялся вновь попасть в опалу и потому усердствовал сверх сил и разума…
При этом некоторые исследования упоминают о Магницком как о затаившемся атеисте [50, 457] – стало быть, всё его усердие было одним только циничным и неистовым угодничеством. Возможно, что и так…
Тем не менее основной в этой кампании всё же была идейная направленность – все науки должны исходить из религиозного миропонимания. Этот тезис сам по себе мог быть вполне здравым, причём и в исполнении членов Библейского общества, высказывавших вполне просветлённые мысли. Чем не здраво требование к медикам руководствоваться в исследовательской и лечебной деятельности правилами христианской нравственности? А разве изумительная гармония математики не есть подтверждение единого начала мира?! Всё так… но вот, даже при столь внятной исходной позиции возможно столь плачевное завершение, как в случае Голицынского духовно-административного эксперимента. Причуды ревнителей приобрели уж совсем неистовый характер: Магницкий, например, предлагал уничтожить в Казанском университете анатомический театр и различные препараты, например, уродцев в банках со спиртом – так как всё это оскорбляет образ человеческий, являющийся отражением образа Божие… Понятно возмущение учёных: «тяжкое рвение» чиновников общественно опасно в принципе, а в тонких материях – в науке, искусстве – вдвойне, втройне… К Александру полетели жалобы, на которые он не мог не обратить внимания: в частности, обратился к императору крупный учёный, профессор Дерптского университета Паррот, прося ограничить чей-то «административный восторг».
Император был немало огорчён: и здесь светлое начало выродилось в неожиданное безобразие! Но то была одна лишь сторона огорчений его. Другую преподнесло духовенство, также не принявшее Голицынских нововведений – разумеется, по совсем иным основаниям; но социальные последствия для Александра как для правителя оказались совершенно те же: разброд, сумятица, борьба придворных группировок. И вся эта беда – вместо чаемого просветления, вместо созидания единого и нерушимого духовного пространства… Действительно впору отчаяться: неужто же ничего нельзя в этом мире сделать лучше?! Как было пять, и десять, и пятнадцать лет назад, так и будет тянуться в дурной бесконечности!..
Неудовольствие духовенства носило характер многоликий. Была здесь политика – безусловно, вершины церковной иерархии по факту, так сказать, являются политической подсистемой, независимо от того, хорошо ли это, плохо ли… Иерархи не выказали радости от того, что государь водрузил над ними Голицына, но дело было не только в персоне князя; дело более в самой системе: структура государственно-церковных отношений в период его министерства действительно усложнилась до чрезвычайной громоздкости. Синод ведь никто не отменил, он остался, а над ним надстроилось уже само министерство – приём, оправдавший себя в 1802 году, повторившись в 1817-м, привёл лишь к бесплодному умножению сущностей, не внеся эффективности в отношения светской власти и церкви, подмятой под государство Петром I. Конечно – как бы ни было об этом горько говорить, но придётся – в своё время священнослужитили проявили достойные лучшего применения смирение и податливость, позволив свирепому царю надеть на них государево ярмо… Но прошло сто лет, духовное сословие вроде бы привыкло к подчинённому положению, устроилось, обжилось в нём. В эпоху «бабьего царства» священство никто особо не донимал, хотя и не помогал ему, оно как-то само по себе прозябало, бедовало и выживало; Павел Петрович, может, и готов был устроить что-нибудь удивительное, да не успел; а вот Александр Павлович, пустившись в странствования по неведомым просторам духовного мира, озаботил многих. Внецерковное, «внутреннее» христианство императора, а за ним и Голицынского министерства, вся эта круговерть из «Криднерши», квакеров, скопцов, хлыстов, Татариновских радений!.. конечно, высокопоставленное духовенство заволновалось.
Мы говорим здесь о духовенстве высокопоставленном – ибо для массы рядовых священнослужителей: уездных, сельских – вряд ли что-либо сместилось в жизни. Петербургские и московские инновации до них просто не дошли.
Одним из таких волнений стал затеянный Александром при посредстве всё того же Библейского общества перевод Библии с церковнославянского на русский язык… На сегодняшний беглый взгляд довольно трудно понять суть коллизии, которая будто бы совершенно банальна: перевели, и на здоровье. По тем же временам это равнялось едва ли не потрясению основ – примерно так же, как за полтора столетия до того исправление священных книг патриархом Никоном.
На самом деле: для воцерковленного сознания сакральность текста определяется его устоявшейся, освящённой всей церковной историей целостностью. Всякое изменение нарушает единство, а следовательно, и ту защитную ауру, которой религия облекает верующего; собственно, при этом теряется сам метафизический смысл религии в исходном смысле слова [коммуникация человеческой души с высшим миром – В.Г.]. Так – возможно, не в этих терминах, но так по сути мыслили противники перевода, например, митрополит Серафим (Глаголевский), взошедший на Санкт-Петербургскую кафедру в 1821 году. И эту позицию не упрекнёшь в отсутствии аргументов… Но есть солидные резоны и в точке зрения противоположной, представляемой и самим Библейским обществом и немалым числом духовных лиц. Время неумолимо; мир меняется, ставит людей перед неведомыми прежде реальностями, хотим мы того или нет… Не пошатнётся ли человеческая вера в мире, год от года наполняемом вещами, у которых нет названия на церковнославянском? Не превращаются ли непонятные людям служения в какую-то отвлечённую магию? И как мыслить о Боге на одном языке, а по жизни ориентироваться на другом?.. Хотя, наверное, можно и так, но всё же лучше, чтобы был один язык для всего – чтобы веру и жизнь не развело, не растащило силой в стороны…