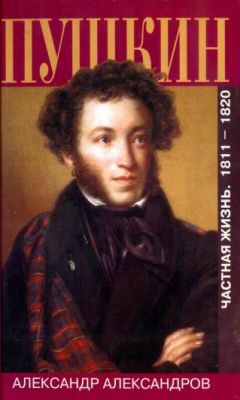«Не грешно ли? Что делаем? — вновь шевельнулась поздняя мысль и успокоилась: — Маменька все знает, ей дано знание от Господа! Маменька, ты со мной!»
Очнулся Мартын Степанович на диване, за ним ухаживала одна из овечек.
И вдруг, как холодным потом окатило, вспомнил он про маменьку, и показалось ему, что не просто так он оказался на диване: он чувствовал какую-то пустоту, а потому в страхе пощупал себя между ног. Его опасения, к счастью, были напрасны. Тряпочкой, но лежал изумленный уд на месте.
«Врут, — подумал он, — все врут про оскопление. Не зря говорит маменька: «К чему скопить тело, когда душу оскопить не могут!» А вот про Катерину Филипповну говорили верно, будто она прельщает даже черных монахов». Что ж, он должен был сознаться, что и его она прельстила не только духовно, но и плотски, однако теперь он был ей более предан, чем когда-либо раньше, и готов был пойти из-за нее на муки.
Он услышал дальний звонок колокольчика в прихожей. Забегали слуги. Вышла и вернулась простая женщина, сидевшая с ним.
— А где же маменька? — спросил он капризно, как больной ребенок.
— К ней пожаловал министр князь Голицын, — был ответ.
— Министр! — задохнулся в восторге Пилецкий. — Здесь бывает сам министр!
Пилецкий слышал, что князь Александр Николаевич Голицын, новый министр народного просвещения, назначенный вместо графа Разумовского и давнишний обер-прокурор Святейшего Синода, очень набожен и самый близкий друг государя. Он понял, что за судьбу маменьки при таких покровителях можно не опасаться.
в которой рассказывается история князя Александра Николаевича Голицына и раскрывается цель его визита к Татариновой. —
Как эпикуреец стал обер-прокурором Священного Синода. — Государь и Мария Антоновна Нарышкина. — Соперник государя князь Гагарин. —
Баронесса Крюденер. — Домовая церковь князя Голицына. — Князь и его камердинер. — Государь с князем читают Евангелие по одной главе в день. — Перед Новым 1817 годомКнязь Александр Николаевич Голицын, маленький, сухонький, с живыми веселыми серыми глазами, в сером фрачке старинного покроя, сидел, настороженно выпрямив спину, в большом кресле в гостиной у Татариновой, и ножки его, как всегда, не доставали до пола. Иногда он оттого, что чувствовал себя не совсем в своей тарелке, как ребенок начинал болтать короткими ножками, скрещивать их и постукивать каблучками туфелек, нервно улыбаясь, но вдруг спохватывался, и лицо его снова принимало серьезное выражение. Так иногда он себя чувствовал у императрицы Марии Федоровны, которая любила его принимать в Павловске в комнате, где висела огромная картина обнаженной женщины. Кто именно на картине был изображен, князь не знал, потому что всегда отводил глаза от ее раскинувшегося под деревом ослепительного тела, прежде чем успевал что-либо рассмотреть, но и когда, что чаще, ему удавалось сесть к картине спиной, он спиной чувствовал всю неприличность ее истомной позы. Подобное чувство он испытывал и в доме у Татариновой; он не знал, как это объяснить, но и сейчас госпожа Татаринова, которая должна была вот-вот появиться, заставляла его трепетать и волноваться в ожидании. На самом деле он, разумеется, прекрасно знал, что это такое, но гнал греховные мысли от себя.
Смолоду князь Голицын был игрив, ветрен и совсем не подвержен религиозным мыслям. Можно сказать, что он был деист, как и многие в те годы, и религия ему претила, так как в самой ее основе отвергалась чувственность, сластолюбие и рассеянность, присущие страстной натуре князя. Будучи несколькими годами старше будущего государя, а тогда наследника великого князя Александра Павловича, он попал в его окружение, как говорили, при юбке Марии Саввичны, статс-дамы и попросту старой сводницы Екатерины II. Он не прошел, как многие, через постель сначала Марии Саввичны, а потом и самой императрицы, вероятно, прежде всего потому, что был довольно невзрачен, но изрядно повертелся возле молоденьких великих княжон, впрочем, безуспешно. Вокруг него тоже повертелись молодые и не очень вертопрахи, и он познал то, что называли тогда наглым развратом. Так долгие годы он не мог выбрать, что же ему нравилось больше — быть с женщинами или быть женщиной. Сама же Екатерина Великая полюбила своего камер-пажа как отменного острослова и весьма комичного имитатора. В остроумии и подражательстве с ним мог соревноваться только Федор Ростопчин, будущий московский главнокомандующий в 1812 году, да и тот больше паясничал и каламбурил при дворе великого князя Павла Петровича.
Екатерина особенно любила, когда князь Голицын показывал ее самое и престарелого канцлера Федора Андреевича Остермана, ныне уже покойного. Как самую ценную реликвию своей жизни князь берег трость, перчатки и нижнее платье императрицы, полученные им от Перекусихиной после ее кончины. Перекусихина в то время была уже стара и, видимо, что-то перепутала, думая, что князь имел какое-то отношение к нижнему платью императрицы. Это было немудрено, ибо императрица старалась не пропускать никого из молодых людей, кого отличала.
Государь Александр Павлович был с ним короток, настолько короток, что сказал как-то, сразу по возвращении князя из московской ссылки, куда его отправил Павел: «Неловко тебе, князь, без публичной должности, всяк в Петербурге знает, как ты у меня короток, так что пора и служить». С тех пор князь и стал делать карьеру, сам того не сильно желая, но именно карьера и перевернула всю его жизнь. В 1802 году он был назначен обер-прокурором 1-го департамента Сената, и пошло и поехало. Через год он, опять же против своей воли, сделался обер-прокурором Святейшего Синода.
До той поры он не то что Старого Завета, даже Евангелия не читал, воспитанный на французском вольнодумстве, но, чувствуя себя обязанным по должности ознакомиться с сим сочинением, основательно принялся за дело. Поначалу дело шло медленно, в русском богослужении, которое велось на церковнославянском, он ничего не понимал; Евангелие пришлось читать на французском. Привычный к шутливому тону в обществе, он поначалу пытался шутить и на религиозные темы, но, встретив у Александра Павловича, воспитанного в уважении к православию, инстинктивный отпор, такого рода шуток более себе не позволял.
Однако, как эпикуреец, проводивший большую часть своего времени в обществе тогдашних прелестниц, он не отказывал себе в удовольствии иной раз и сообщить какой-нибудь из них, что развлекается она с обер-прокурором Святейшего Синода. В обществе его прозвали «князь синодальный» и посмеивались, когда он в церкви подлетал к архиерею, пожимал ему руку, а порой и перебрасывался во время службы словцом-другим. Архиереи побаивались всесильного князя и даже не протягивали ему руки для целования.