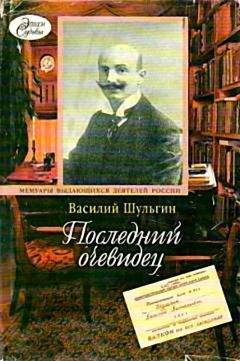Ко мне пришел один офицер.
— Зная вас, я хочу вас предупредить.
— О чем?
— О настроении Петроградского гарнизона. Вы не смотрите на то, что на каждой площади и улице они «печатают» на снегу. С этой стороны за них взялись… Но этим их не переделаешь. Вы знаете, что это за публика? Это маменькины сынки!.. Это все те, кто бесконечно уклонялся под всякими предлогами от мобилизации. Им все равно, лишь бы не идти на войну… А кроме того, и объективные причины есть для неудовольствия. Люди страшно скучены. Койки помещаются в три ряда, одна над другой, как в вагоне третьего класса. Чуть что — они взбунтуются. Вот помяните мое слово. Гнать их надо отсюда как можно скорее.
Был морозный, ясный день. Едучи в Думу, я действительно чуть ли не на каждой улице видел эти печатающие шеренги. Под руководством унтер-офицеров они маршировали взад и вперед, приглаживая снег деревянными, автоматическими движениями.
Теперь я смотрел на них с иным чувством.
И вспомнилось мне, как еще в 1915 году жаловались мне на одну дивизию, набранную в Петрограде. Ее иначе не называли, как «санкт-петербургское беговое общество». Куда ни пошлют ее в бой, она непременно убежит.
* * *
Н. сказал мне, что он хотел бы поговорить со мной наедине, доверительно. Я пригласил его к себе. Он пришел. У него на моложавом лице всегда были большие розовые пятна. (Не знаю, от чахотки или от здоровья).
Он начал издалека и, так сказать, иносказательно. Но я его понял. Он зондировал меня насчет того, о чем воробьи чирикали за кофе в каждой гостиной, то есть о дворцовом перевороте. Я знал, что бесформенный план существует, но не знал ни участников, ни подробностей. Впрочем, слышал я о так называемом «морском плане».
План этот состоял в том, чтобы пригласить Государыню на броненосец под каким-нибудь предлогом и увезти в Англию как будто по ее собственному желанию. По другой версии, уехать должен был и Государь, и Наследник должен был быть объявлен Императором. Я считал все эти разговоры болтовней.
Н. говорил о том, что государственный корабль в опасности и, можно сказать, гибнет и что поэтому требуются особые, исключительные меры для спасения экипажа и драгоценного груза.
— Если бы вам были предложены такие исключительные, из ряда вон выходящие меры для спасения экипажа и груза (а ведь вместе они составляют русский народ), пошли бы вы на эти совершенно не вмещающиеся в обыденные рамки, совершенно экстренные меры, пошли бы вы на них для спасения Родины?
Я ответил не сразу, потому что понял фразу. Мне вдруг вспомнилось, как однажды Столыпин произнес свою знаменитую фразу:
— Никто не может отнять у русского Государя священное право и обязанность спасать в дни тяжелых испытаний Богом врученную ему державу.
Я вспомнил, как бешено обрушились тогда на Столыпина кадеты за эту «неконституционную фразу». Теперь они же, кадеты, или один из них предлагают для спасения этой же державы меры, настолько менее конституционные сравнительно с 3 июля, насколько шлюпка меньше броненосца.
Наконец я ответил вопросом:
— Вы читали Жюля Верна?
— Читал, конечно, но что именно?
— Это неважно, потому что я не уверен, что это из Жюля Верна. Во всяком случае, это теория моряков.
— Какая теория?
— Две теории, или, вернее, две школы. Одна школа — это «суденщики», а другая «шлюпочники».
— Объясните.
— Это касается морских бедствий — кораблекрушений. «Шлюпочники» утверждают, что, когда корабль терпит так называемое кораблекрушение, то надо пересаживаться на шлюпки и этим путем искать спасения.
— Это понятно. А «суденщики»?
— А «суденщики» говорят, что надо оставаться на судне.
— Да ведь оно гибнет!
— Все равно. Они говорят, что из десяти случаев в девяти шлюпки гибнут в море.
— Но один шанс все же остается.
— Они говорят, что один шанс остается и у гибнущего корабля, поэтому не стоит беспокоиться.
— А вывод?
— Вывод тот, что я принадлежу к школе «суденщиков», а потому останусь на судне и в шлюпки пересаживаться не хочу.
Он помолчал.
— В таком случае, забудем этот разговор.
— Забудем…
* * *
Не помню хорошенько, когда это было. Кажется, в конце января. Где? Тоже не помню… Где-то на Песках. Это была большая комната. Тут были все. Во-первых, члены бюро прогрессивного блока и другие видные члены Государственной Думы: кадеты Павел Николаевич Милюков, Николай Виссарионович Некрасов, Андрей Иванович Шингарев, Николай Николаевич Щепкин, прогрессист Иван Николаевич Ефремов, октябрист Сергей Илиодорович Шидловский, Владимир Николаевич Львов от группы центра. Кроме того, были деятели земгора. Был и А. И. Ручков, кажется, председатель земского союза князь Г. Е. Львов и еще разные, которых я знал и не знал.
Сначала разговаривали — «так», потом сели за стол… Чувствовалось что-то необычайное, что-то таинственное и важное. Разговор начался на ту тему, что положение ухудшается с каждым днем и что так дальше нельзя… что что-то надо сделать… Необходимо сейчас же… Необходимо иметь смелость, чтобы принять большие решения… серьезные шаги…
Но гора родила мышь… Так никто не решился сказать — что они хотели, что думали предложить?
Я не понял в точности… Но можно было догадываться. Может быть, инициаторы хотели говорить о перевороте сверху, чтобы не было переворота снизу. А может быть, что-нибудь совсем другое.
Во всяком случае — не решались… И, поговорив, разъехались… У меня было смутное ощущение, что грозное близко. А попытки отбить это огромное — были жалки. Бессилие людей, меня окружавших, и свое собственное в первый раз заглянуло мне в глаза. И был этот взгляд презрителен и страшен.
Это ощущение близости революции было так страшно, что кадеты в последнюю минуту стали как-то мягче.
Перед открытием 14 февраля 1917 года прерванной в декабре 1916 года пятой сессии Государственной Думы, по обыкновению, составляли формулу перехода. Написать ее сначала поручили мне. Я написал сразу, так сказать, не исправляя, и было это не столько формулой перехода, сколько моими чувствами, вылившимися на бумагу. Это было стенание на тему «до чего мы дошли». И, помню, была такая фраза: «В то время как акты террора совершаются принцами имперской крови…»
Заключение говорило о том, что требуются героические усилия, чтобы спасти страну. Формула показалась всем слишком резкой. Милюков сказал, что она написана прекрасно, но признал наравне с другими, что в настоящую минуту такая формула нежелательна. Я, разумеется, не настаивал. Приняли формулу Милюкова, более скромную.