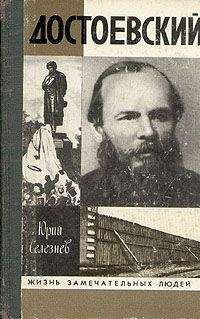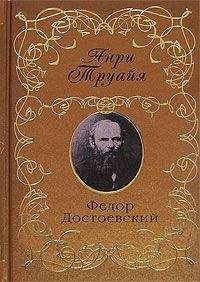Нужны люди, лучшие люди из образованного сословия, которые прониклись бы идеей служения народу. В этом служении и определятся истинно лучшие люди. Не могут не определиться лучшие люди в смысле сознателей правды народной. Молодежь с энтузиазмом пошла в народ, но не за тем, чтоб узнать мужика, а чтоб научить его. Чему? Вот и народ их не узнал — послушает, послушает да сам же и потащит учителя своего к уряднику и без того, мол, житье несладкое, да еще эти чего-то непонятное замышляют...
Везде что-то замышляется и свершается — во Франции пытаются реставрировать Бурбонов, на Балканах началась освободительная борьба славян против турок.
Покоя не будет — будущность чревата...
Глава II. ВЕЛИКИЕ НАДЕЖДЫ
Великие души не могут не иметь и великие предчувствия.
Достоевский
Всякий, кто захотел истины, уже страшно силен.
Достоевский
Вот уже с час лежит он с открытыми глазами, почти не шевелясь, словно боясь вспугнуть то странное состояние, которое пришло вдруг сейчас; будто открывалась ему в эти мгновения тайна, превосходящая ум человеческий, и показалось — то, что происходит сейчас с ним, происходит со всем миром: близко время его, «при дверех». Словно забежала в мир какая-то Piccola bestia, и все, словно укушенные проклятым насекомым, перестают понимать друг друга. Начало зла — в отсутствии предания, высшей идеи, без которой нет ни человека, ни семьи, ни общества, ни нации, ни понимания между ними, хотя идей хоть отбавляй, и все сваливаются на человечество как камни, и что ни идея, то — разрушительная.
Он, кажется, снова пророчествует... Впрочем, что ж, — быть русским писателем и не пророчествовать?
Его всегда мучительно волновал этот вопрос: существует ли пророчество, то есть существует ли в человеке способность пророческая как естественная способность, заключающаяся в самой его природе? Современная наука, столь много трактующая о человеке и даже уже решившая много вопросов окончательно, как сама она полагает, кажется, никогда еще не занималась вопросом о способности пророчества в человеке. Потому что заниматься таким вопросом, даже только ставить его, в наш век недостаточно либерально и может скомпрометировать серьезного человека...
Как слово западает в человека и какими путями приходит к нему? То слово, чтоб даже если кончится когда-нибудь Земля и обратится, по науке, в ледяной камень и будет летать в безжизненном пространстве среди бесконечного множества таких же ледяных камней, — чтоб и тогда оставалось это слово, по которому растопились бы льды и снова началась бы жизнь — с ее страстями и сомнениями, отчаяниями и надеждами, с ее великой верой в неистребимое, вечное, могучее, все возрождающее Слово.
«Все в будущем столетии... Россия — новое Слово...» — записывает Достоевский в свою тетрадь. Он помнит, как нелегко давался тогда этот новый его роман, как чуть не до отчаяния овладевала тогда им чувствовавшаяся во всем идея разложения — все врозь, и никаких не остается связей в русском семействе. Даже дети врозь...
«— Столпотворение вавилонское, — говорит Он. — Ну, вот мы, русская семья. Мы говорим на разных языках и совсем не понимаем друг друга. Общество химически разлагается.
— Ну нет, народ...
— Народ тоже...
Разложение — главная видимая мысль романа», — записал тогда Федор Михайлович одну из важнейших идей будущего произведения, не имевшего еще ни названия, ни сюжета, ни имени главного героя — просто Он.
Сначала хотел написать «роман о детях, единственно о детях и о герое — ребенке», но, как ни отвергал, как ни пытался обойтись на этот раз в новом романе без искушенного мыслью героя, современного Гамлета, мыслителя-идеолога, которого и обозначил пока просто Он, — никак не мог отделаться от него. А тут еще проклятая эмфизема легких, да такая, что и сжатый кислород не помогает. Врачи категорически настаивают на водах — придется ехать за границу, и как это некстати!
Девятого июня 75-го года он уже был в Берлине, а через несколько дней прибыл и в Эмс с его знаменитой водолечебницей. Лечился, работал над планом романа, но он почти совсем не двигался, так что порой находило даже смущение — что, если он уже и вообще выдохся, исписался? «У меня тоска чрезвычайная. Не понимаю, как проживу здесь месяц», — жаловался в письмах. В начале августа заехал в Женеву, постоял у могилки Сонечки... А 10-го уже вернулся в Старую Руссу.
Герой — Он — получил наконец фамилию: Версилов. Старинного дворянского рода, полжизни проведший в Европе, этот герой виделся ему теперь уже более определенно: он будет носителем высшей русской культурной мысли и всепримиримости; не открыв Россию в самой России, он попытается найти себя и свою Россию в Европе и через Европу, как это случилось реально с Герценом, — считал Достоевский, — или нравственно с Чаадаевым. Нет, он, конечно, не собирался воспроизводить в своем Версилове ни самого Герцена, ни Чаадаева, но и они, их судьбы, их духовные искания должны бы отразиться в идее Версилова — европейского скитальца с русскою душой. У нас принято противопоставлять Россию и Европу, в Версилове обе эти идеи, обе духовные родины — западников и славянофилов — должны соединиться, как в Герцене, писавшем, например, в «Колоколе» по случаю смерти одного из ведущих славянофилов — Константина Аксакова: «У них и у нас — то есть у славянофилов и у западников — запало с ранних лет одно сильное, безотчетное... страстное чувство, которое они принимали за воспоминание, а мы за пророчество: чувство безграничной, охватывающей все существование, любви к русскому народу, к русскому быту, к русскому складу ума... Они всю любовь, всю нежность перенесли на угнетенную мать. У нас, воспитанных вне дома, эта связь ослабла. Мы были на руках французской гувернантки, поздно узнали, что мать наша не она, а загнанная крестьянка... Мы знали, что ее счастье впереди, что под ее сердцем... — наш меньшой брат, которому мы без чечевицы уступим старшинство».
Вот это-то чувство, эту способность «всемирного боления за всех» Достоевский решил отдать своему Версилову, вернувшемуся в Россию, чтобы найти ту крестьянку, которая носила под сердцем его сына; найти и сына своего, чтобы передать ему опыт своей судьбы, потому что в сыне его — будущее России, а значит, и Европы и всего мира... В русской идее Версилова Россия вместит в себя и Европу, всю ее культуру, накопленную веками и всеми народами Запада, и не растворится в ней, а соединится в новом, высшем синтезе, в котором совокупятся все души народов в понимании и сочувствии.