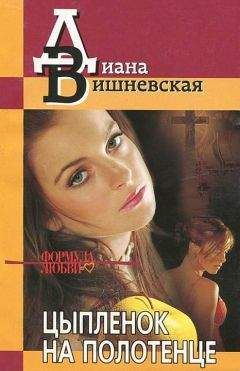— Так вот в чем дело?! Спасибо, что вы нам об этом сказали. Здесь не хотят с Ростроповичем играть, а оркестры Парижа, Лондона, Нью-Йорка об этом мечтают. Значит, никакого другого выхода у нас и нет, как только отсюда к ним уехать. А вам самое время от нас избавиться!
— Не очень-то обольщайтесь насчет заграничных оркестров!
— А уж это не ваша забота!..
— Привыкли, что с вами здесь церемонятся, и заявление-то — ишь, куда замахнулись — самому Брежневу!
— Ничего, замахнулись по своему рангу. К кому нам здесь еще и обращаться…
— Для этих дел существует ОВИР.
— А кто это такой Овир? Я его не знаю. Слава, кто такой Овир?
— Не кто, а что — там занимаются эмиграционными вопросами, — единственный раз раскрыл рот Попов и снова замолчал.
— В ОВИР вы нас не отсылайте — эмигрировать мы не собираемся, но за границу мы уедем и там подождем, когда с Ростроповичем захотят здесь играть. Ладно, пойдем, Слава. Им строчить докладную в ЦК, а у меня дело потруднее — мне завтра утром генеральную репетицию петь.
— Ну, смотрите, чтобы все это не оказалось шантажом!
— Что-о-о?!
— Да, да. Раз подали заявление, так не идите на попятный. И не надейтесь, что вас будут уговаривать…
— Я вижу, что вы до сих пор не поняли, с кем имеете дело. Уговаривать нас имело смысл раньше, теперь же никакие ваши уговоры не помогут. Больше того, если нас не выпустят, мы поднимем шум на весь мир. Ждать ответа будем две недели.
— Мы думаем, что власти не будут возражать против вашего отъезда.
— Спасибо, это все, что нам нужно.
Вылетев пулей из этого зловония, мы поехали на дачу — взять оттуда детей. Странное чувство охватило меня, когда я вошла в дом, — будто все уже не мое. Да, впрочем, никогда и не было моим, у нас могут у любого всё отобрать в одну минуту. Прошла по всем комнатам, не чувствуя никакого сожаления, что скоро надолго расстанусь со своим гнездом. В зале одиноко стоял Слава и даже не слышал, как я подошла.
— Слава, не жалей ни о чем.
— Сколько любви, сколько сил я вложил в этот дом…
— Не думай о доме, спасай свою жизнь.
Вызвали дочерей, и Слава очень осторожно, чтобы не напугать их принятым нами решением, сказал, что мы подали заявление на отъезд из России на два года.
Наши дети — Лена шестнадцати и Ольга восемнадцати лет, — видя, в каком удрученном и взволнованном состоянии находимся мы оба, пытались скрыть захлестнувшую их радость от столь неожиданного известия и из последних сил старались удержать рты, невольно растягивающиеся в улыбки. Наконец, поняв, что все усилия напрасны, счастливые повисли у нас на шее.
— Вот красота! Неужели нас отпустят!..
Для них отъезд был как свалившийся с неба билет на увеселительное двухлетнее путешествие вокруг света. На другое утро, взвинченная до последней степени, с покрасневшими на нервной почве голосовыми связками, я вышла петь генеральную репетицию «Игрока», хотя врач нашего театра категорически запретил мне петь в таком состоянии — я могла навсегда потерять голос. Как у меня хватило выдержки, не понимаю. Но в те дни начались у меня спазмы дыхательных путей, и с тех пор стоит лишь мне понервничать, как у меня перехватывает дыхание.
По театру разнеслась уже весть, что мы подали заявление на выезд, и все с ужасом смотрели на меня. Причины, правда, были разные. Та пятерка исходила злобой и завистью, что вдруг нас выпустят за границу, — ведь не о том они мечтали, когда пошли с доносом в ЦК. В этом случае они сами хотели бы быть на нашем месте. А мои друзья и доброжелатели были уверены, что нас ни за что не выпустят и создадут такую для меня обстановку, что я вынуждена буду из театра уйти.
У меня же была теперь одна цель в жизни — уехать во что бы то ни стало и добиваться этого любым путем.
Я обычно никогда не смотрю в зал, не вижу публики. Но в сцене «Игорный дом» я нахожусь высоко над игроками в своей комнате, в течение всей картины открытая для публики и по замыслу режиссера застывшая в неподвижной позе. Сцена подо мною длится минут 10–15. Сейчас, прижавшись в угол дивана, я смотрела сверху прямо в зрительный зал.
Как странно… Утренняя генеральная репетиция, а много черных костюмов и белых рубашек, необычно много мужчин. Может, и всегда было так, но я раньше просто не видела зрительного зала… Приемная комиссия из ЦК, чиновники из Моссовета, КГБ, Министерства культуры… Мужчины России… После репетиции засядете строчить отзывы или доносы, а бабы русские вручную железные дороги строят, мостовые мостят… Вы же в ролях надзирателей… Вот и сейчас, коршунами слетелись принимать спектакль бывшего формалиста Прокофьева. Будьте бдительны! Кляуза уже была… Заодно вы «любуетесь» сейчас и мною, всем вам уже известно: в Большом ЧП! — подала заявление на длительный отъезд, расплевалась с великодержавным Большим театром певица, вон та, что на верхотуре сейчас сидит. Это непорядок, и такого еще не бывало. Из Большого театра народной артистке СССР полагается только на пенсию, и тогда — юбилейный спектакль и орден… Или ногами вперед, и в этом случае панихида в большом фойе, хор, оркестр и Новодевичье… Как же. так не доглядели и не придушили раньше, чтобы не мешала жить, не нарушала освященный десятилетиями покой и благолепие. Глядя на их обращенные ко мне тупые, оплывшие физиономии, всей своей шкурой я чувствую, с каким удовольствием стащили бы они меня за ноги со сцены, бросили на пол и затоптали бы ногами так, как их обучали: «На тебе, падло! чтобы другим неповадно было».
Но если у меня, получившей пинок, от ярости кровь кидается в голову так, что я готова разбить ее вдребезги об эти стены, — то что же пережил Прокофьев, которого много лет мордовали на открытых собраниях и в прессе? Гениальный Прокофьев, чью оперу вот сейчас только, через шестьдесят почти лет после того, как она написана, впервые представляют советской публике… нет, не публике, а вот этим держимордам, вольным вынести свой приговор блестящему сочинению: пущать или не пущать, казнить или миловать.
У меня плыли красные круги перед глазами. Я не заметила, как «комната» опустилась вниз, — началась моя финальная сцена с Алексеем. И когда по действию подошло время моей «истерики», во мне будто прорвало плотину. Я кричала с таким отчаяньем, мне хотелось, чтобы от моего крика обрушился зал и поглотил весь народ, который я сейчас так ненавижу, а вместе с ним поглотил бы и меня, потому что я сама плоть от плоти этого народа… И этот Алексей, трясущимися руками протягивающий мне — Полине — груду денег… Но разве может он спасти меня от леденящего душу унижения, не перед кем-то, а самое главное — перед самой собой? Снова быть униженной — и таким ничтожеством! Да ни за что на свете! Бросить ему в лицо эти деньги, и будьте все прокляты! не видеть, скорее бежать, зарыться в нору… «Вот тебе твои деньги!»… Чуть не падая от пережитого, я стояла в кулисе, кто-то коснулся моего плеча — Лариса Авдеева, она пела в спектакле партию Бабуленьки.