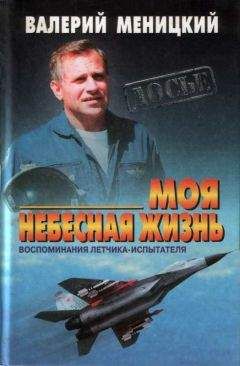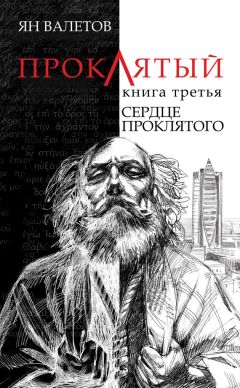Больница сама по себе многому может научить и многое приоткрыть тебе. Это своего рода школа человеческого общения. Когда ко мне набежали друзья, узнав об аварии, от них пропустили ко мне только одного человека. Он принёс в палату, кроме всего прочего, букеты васильков и ландышей. Цветов было много. Настроение моё заметно поднялось. В комнате стоял аромат леса и поля. И когда вечером я слушал по радио мелодии, то вдруг почувствовал, что жизнь прекрасна, и осознал, насколько близко я был к двери, ведущей в мир иной.
Здесь же я сделал для себя ещё одно открытие. Насколько приятным человеком и чутким, настоящим врачевателем тела и души была Капитолина Григорьевна, насколько она хорошо встретила и отнеслась ко мне, настолько горько запал мне в память неприятный эпизод в самом начале моего больничного пути. В приёмном отделении, куда меня доставили друзья, я попросил разрешения позвонить домой маме. Я с семьёй только-только переехал в Москву, и у нас дома телефон ещё не поставили. Я знал, что информация об авариях и катастрофах по семьям лётчиков распространяется мгновенно, и не хотел, чтобы её донесли до мамы чужие люди. Одно дело, когда ей скажут посторонние, что я оказался в госпитале, хоть и в удовлетворительном состоянии: мама и жена передумают всё что угодно, пока не убедятся, что я действительно жив. А когда ты сам своим голосом скажешь, что всё в порядке, что есть травмы, что на тебя наложен гипс, но ты разговариваешь, то это подействует успокаивающе на любого человека, а тем более на женщин. Я хотел всего лишь позвонить маме и успокоить её, а она бы связалась потом с Олёной. А потом к ним подъехали бы друзья и рассказали, что всё нормально.
Но мне такой возможности не дали. Более того, пытались заставить выпить нечто успокаивающее. Я понимал, что сделать это нужно, но отказался:
— Дайте мне лучше рюмку коньяка!
На что одна дама в белом халате заявила:
— Да он что у вас — алкоголик?
Аркадий Слободской, всё время находившийся рядом со мной, не выдержал:
— Да вы что! Он у нас капли в рот не берёт.
Конечно, такое обращение на пользу моему настроению не пошло. И поговорку «У нас не госпиталь, а тюрьма!» я впервые ощутил на себе, когда оказался в этом лечебном учреждении. Выпить успокаивающее я отказался уже врачам назло, хотя, быть может, и зря. Уже потом, в палате, когда ко мне подошла Капитолина Григорьевна и поговорила со мной по-человечески, я выпил предложенное лекарство. Позже пришли ребята и сказали, что позвонили маме, переговорили с ней, а затем поехали к Олене и успокоили и её.
А в это время на фирме начались разборы-переборы того, что произошло со мной. Процесс этот был долгим и нудным. Надо было докопаться до истинных причин аварии. Нашли перезатянутый подшипник. Другую причину — потерю нами бдительности — я уже называл. Что же касается той информации, которой я спешил поделиться в вертолёте с Колей Бунтиным и Аркадием Слободским, то многие не поверили моим наблюдениям за работой двигателей. Но когда комиссия просмотрела плёнки контрольно-записывающей аппаратуры, то мой анализ полностью совпал с показаниями приборов. Кроме того, подтвердилось и то, что я видел в момент катапультирования — срабатывание двух лампочек (как оказалось, индикаторов отказа двух гидросистем). Нашли и белый листок, скользнувший по стеклу кабины. Он оказался листом с моей планшетки.
Я попросил проверить катапульту. На мой взгляд, прошло слишком много времени с момента нажатия на рычаги. Мне показалось, секунд 3,5–5. Выяснили причину потемнения в глазах. Оказалось, при катапультировании упал светофильтр, и я смотрел на мир через него. Как показали записи КЗА, катапульта сработала платно, и время от нажатия на ручки до полного выхода и раскрытия парашюта составило 1,1 секунды. Так растягивается время в экстремальных ситуациях.
Пока анализировались причины аварии, приводилось много всевозможных гипотез и доводов. Я всё время говорил о необходимости проверки моей информации. Но комиссия почему-то не стала анализировать первые минуты нестандартного поведения систем самолёта, а предпочла работать непосредственно над последующими событиями. Потом она нашла явную причину аварии. Главной её виновницей явилась масляная система МиГ-29: низкое давление масла и перезатяжка подшипника. Иными словами, идеологический и технологический брак. Но мне хотелось бы остановиться на другом. То, о чём я пишу, возможно, прозвучит настоящим откровением, и хотя это тяжело признавать, но я считаю, что в этой катастрофе виновны не только техника и её идеология, но и коллектив руководителей. Они определяли эту тему под постоянными увещеваниями двигателистов, которые, между прочим, в кулуарных разговорах сами сомневались в надёжности новой масляной системы.
После очередного понижения давления в масляной системе я всё время задавал им один и тот же вопрос. У двигателистов был один очень классный специалист, великолепно знающий и понимающий технику, — Григорий Душац-Коган. Он каждый раз идеально выводил очередное толкование падения давления масла в системе. И я всегда говорил ему:
— Гриша! Если ты так хорошо всё рассказываешь и тебе всё ясно, почему же вы сразу всё не сделали так, как надо?
Он повторял в ответ как ни в чём не бывало одно и то же:
— Ну, вот теперь мы поумнели.
Проходило какое-то время, случалась новая неприятность с маслом. Систему дорабатывали, но давление, как и прежде, держалось ниже нормы. И снова перед комиссией вешались многочисленные схемы и графики. Мы снова задавали тот же вопрос. И снова двигателисты «умнели». Это постоянное «латание тришкиного кафтана» происходило по одной простой причине. Сергей Петрович долго не решался железной рукой всё поставить на свои места. Большинство его сотрудников думало так же, как и мы. Но были вынуждены защищать честь мундира. Я разговаривал и со Старовойтенковым, главным конструктором этой машины. Человек изумительных качеств, великолепный организатор опытного производства, сильный конструктор в области двигателестроения, он очень мобильно откликался на наши замечания по многим вопросам. Но масляная система была камнем преткновения.
Я общался и с Юрой Грязновым, со многими другими специалистами, которые соглашались, что корень зла — в масляной системе, что её необходимо переделать на нижний маслосбор вместо верхнего расположения насосов. Но всё это было между нами. Когда же дело доходило до высокого начальства, их «требовательный голос» менялся. Потому что руководитель определил, что система будет стоять сверху.
Не буду снимать вину и с нас, лётчиков-испытателей. Наши руководители были тоже не лыком шиты и знали многие нюансы этого двигателя благодаря богатым материалам наших испытаний. И могли бы настоять на кардинальной переработке системы. Но вмешалась политика. Поджимали сроки. Мы сильно отставали из-за силовой установки. Полёты ввиду неисправности двигателей часто срывались. Поэтому предпочли постоянное латание масляной системы. Радикально же менять её значило переделывать часть двигателя. Этот процесс требовал много времени. А останавливаться никто не хотел. Была возможность продолжать часть испытательных работ на старом двигателе и параллельно делать новую силовую установку, а точнее, новую масляную систему. А если ещё точнее, часть масляной системы. Но и это было бы очень сложной доработкой двигателя, доработкой радикального характера.