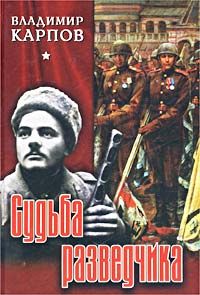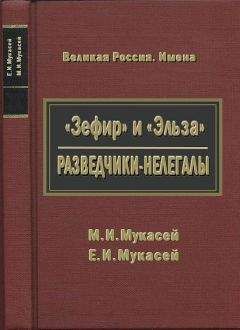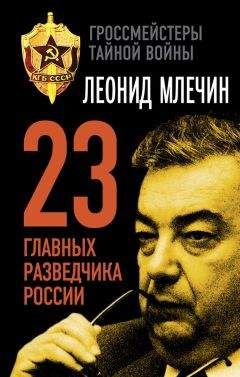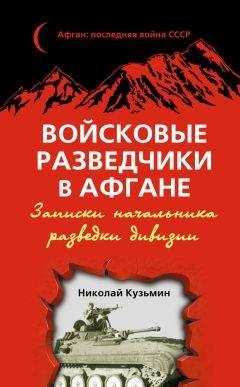Кузьма ответил не сразу, подумал, потом сказал:
— Как тебе объяснить, милая, — не знаю. Умирают люди на войне просто: ударила пуля или осколок — и упал человек. А мы дальше идем вперед. Нам останавливаться нельзя. Что говорят люди перед смертью, мы не слышим… Одно знаю точно — лозунги и всякие речи, как это в кино показывают, они не произносят. Вот у меня на руках друг умирал, пожилой человек, бороду носил, а пришел конец — маму позвал. «Больно, — говорит, — мне, маманя». На том и погас.
Школьники проводили фронтовиков до ворот, целые охапки цветов надарили. Всю дорогу Василий и Кузьма раздавали эти букетики — кондукторшам в троллейбусе, девушкам в метро, милиционершам.
Василий очень остро ощутил сладость простой мирной жизни: улица, ходят люди, мчатся автомобили и трамваи, казалось бы, ничего особенного, обычная будничная суета, но как она прекрасна! Как приятно видеть все это, ходить в полный рост среди людей, не опасаясь ни пуль, ни снарядов. Какое, оказывается, простое и непритязательное человеческое счастье.
Ночью полк разбудили дневальные. Именно разбудили, а не подняли по тревоге. Спокойно, негромко скомандовали:
— Подъем! Вставайте, товарищи. Будет генеральная репетиция.
Ночные подъемы прежде всегда происходили по взвинчивающему, будоражащему призыву: «В ружье!» Сегодня не надо было спешить, но срабатывала годами выработанная привычка: одевались быстро, бежали к умывальникам. Через несколько минут все были готовы. Собрались во дворе, а времени до построения осталось ещё много. Закурили. Посмеиваясь, Кузьма сказал:
— Так вот и дома ночью толкнет жинка в бок, а ты первым делом в сапоги вскочишь!
Москва спала. Тихая, умиротворенная. Лампочки светились, убегая вдаль, вдоль тротуаров. «Как трассирующие пулемётные очереди, — подумал, глядя на них, Василий. — А круглые пятна света на дороге похожи на воронки, только белые… Так и буду, наверное, всю жизнь войну вспоминать».
Хотел Василий прогнать навязчивые фронтовые сравнения, но куда от них денешься, уж так устроен человек — все видит через свое прошлое, пережитое. Глядел Ромашкин на красивые высокие дома, широкие подметенные улицы, а вспоминались те, по которым шел на парад в сорок первом: скорбные улочки, холод, мрак, окна, заклеенные белыми бумажными крестами, дробный стук промерзших подметок по мостовой.
Вдали над входом в метро засияла большая красная буква "М". И тут же встала перед глазами Василия другая "М" — синяя, и вспомнились слова Карапетяна: «Это для маскировки, чтобы немецкие летчики не видели. До войны эти буквы были красные». И вот она, та алая, сияющая буква "М".
Генеральная репетиция парада проводилась на Центральном аэродроме, что на Ленинградском шоссе. Асфальтированное поле размечено белыми линиями с точным соблюдением размеров Красной площади. Красными флажками на деревянных стойках были обозначены мавзолей, ГУМ, Исторический музей, собор Василия Блаженного.
Войска, генералы перед строем, командующий и принимающий парад освещены ярким белым светом прожекторов. Под прямым ударом из лучей вспыхивали белым огнем ордена, медали, никелированные ножны генеральских шашек.
Когда рассвело, принялись за дело фотографы и кинооператоры, они сновали между рядами, выбирали особенно колоритных фронтовиков, благо было из кого выбирать, каждый сиял целым «иконостасом» наград.
Вдруг Ромашкину показалось знакомым лицо одного невысокого журналиста. Он был в очках с толстой роговой оправой. «Где я его видел? — припоминал Василий. — На кого-то похож? Такого очкарика вроде бы не встречал. Да и всего-то в жизни знал одного журналиста — Птицына. Того, что с нами ходил на задание и был ранен. Но тот был без очков и, наверное, умер… И все же…»
— Товарищ, вы не Птицын?
— Ромашкин! — воскликнул очкарик и тут же обнял Василия. — Живой?
— Я-то жив, а вы как выцарапались?
— Обошлось. Читали заметку?
— Спасибо. Каждый разведчик на память сохранил.
— Боюсь спрашивать — не все, наверное, дожили до победы?
— Не все, — Василий рассказал о тех, кто погиб.
—Я ведь тогда случайно остался жив, — пояснил Птицын, — и не только потому, что был ранен в живот. По дороге в ваш полк разбились очки, запасных не было. Возвращаться время не позволяло. Я с вами почти слепой мотался. Ни черта не видел!
— Когда отбивали фашистов, тех, что сбоку к нам в траншею влетели, — помните? — я заметил, уж очень вы по-учебному стреляли, одну руку назад, другую, с пистолетом, далеко вперед, прямо как в тире!
Птицын смеялся:
— Вот-вот. Гитлеровцы у меня в глазах словно тени мелькали, почти наугад стрелял.
— Как же вы отважились идти без очков с нами?
— Материал нужен был срочно. На войне каждый по-своему рискует. Запишите мой телефон, адрес. Встретимся, поговорим. Я ведь москвич.
Василий записал, а Птицын все не уходил, рассказывал:
— Я часто вспоминал о вас. Хотел разыскать, но не знал полевой почты. После ранения здесь, в Москве лечился. Знаете, что я сейчас вспоминаю?
— Конечно, нет. Столько было за эти годы!
— Видится мне парад сорок первого. Снег падает. Суровые лица, настроение тяжелое. Хочу написать статью — сравнить тот и этот парад.
— Я тоже тогда был на площади.
— Это же здорово! Может, я и возьму за основу ваши переживания — тогда и теперь?
— Только не это! — воскликнул Ромашкин, вспомнив, как стесненно чувствовал себя при каждой просьбе рассказать о фронтовых делах. Желая уйти от этой затеи, Василий перевел разговор на другое. — Вы знаете, у меня тогда даже неприятность произошла.
— Какая?
— Собственно, не на параде, а позже, в госпитале. Смотрел я кинохронику и заметил, что снежинки перед Сталиным не летят и пар у него изо рта не идет, а ведь в тот день мороз был. Вот я возьми и скажи об этом. Чуть политическое дело не пришили. Даже потом не раз припоминали.
— А что же тут политического?
— Не знаю.
— Тем более что вы правы. Я эту историю хорошо помню. Мы, журналисты, всегда знаем больше других. Тогда ведь что было. Парад готовили в тайне. Чтобы немцы авиацией не смогли помешать, Сталин разрешил включить радиостанции только тогда, когда начал речь. И кинооператоры приехали с опозданием, их поздно оповестили. Сталин почти половину речи произнес, когда они прибыли. Доложили после парада об этом Сталину. Боялись, конечно, но все же доложили. Согласился Сталин повторить речь перед киноаппаратом. Снимали его в Кремле, в помещении. Так что вы абсолютно правы и ещё раз проявили наблюдательность разведчика.
Птицын и о предстоящем параде знал то, что не многим было известно. Ромашкин спросил его: