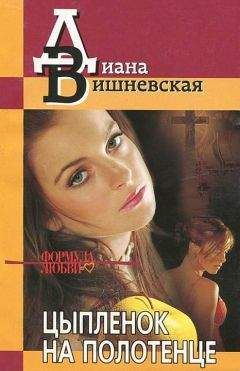— Ну что, Галина Павловна, попрощаться пришла?
— Господи, кто там?
— Да это я, не пужайся!
— Мне казалось, никого здесь нет.
Старуха-уборщица с ведрами и тряпками в натруженных руках… Сколько лет я пою здесь, столько же и она убирает эту сцену.
— А я прибираюсь там вон, полы мою, да гляжу — кто это все тут ходит и ходит… Что, тяжко тебе?
— Тяжко.
— Ну, терпи, милая, Господь терпел и нам велел.
— Терплю… терплю…
— Ладно, оставайся, а я пойду покудова. Прощай!
— ПРОЩАЙ…
Пришел, наконец, этот день — канун отъезда — день прощания с живыми и мертвыми, и рано утром я поехала на Новодевичье. Я не люблю это кладбище-музей, апофеоз безвкусицы и пошлости, так наглядно отражающих духовную суть советской элиты. На Новодевичьем похоронены члены правительства, маршалы, министры, самые знаменитые ученые, академики, писатели. Здесь все только самые, самые… Здесь — наглядный результат жизненной борьбы советской элиты, и здесь, в основном, только победители. Как-то я сказала Славе, что оно напоминает мне прием — а ля фуршет — в Георгиевском зале Кремлевского дворца, где все норовят протиснуться поближе к высоким правительственным чинам, принять на себя исходящее от них сияние и в то же время выкинуть этакое коленце, чтобы быть среди них заметными и ими отмеченными. На Новодевичьем их коленца оплачивает из своего кармана живущий впроголодь советский человек.
Вот и сейчас квадратная огромная, выше человеческого роста, мраморная плита, как стена, вдруг выросла передо мной. На ней, во всю ее площадь, изображение лысой головы. Что за чудище? Кто, одержимый манией величия, подобно египетскому фараону предстал перед потомками? «Министр финансов СССР Зверев».
Стараясь не видеть обступающего меня со всех сторон вопиющего уродства, я спешу знакомой дорогой к Мелик-Пашаеву, в старую часть кладбища, где похоронены знаменитые артисты и где всё гораздо скромнее и проще. Могила Прокофьева. Здесь часто бывал Слава. Перед каждым важным событием в своей жизни шел он сюда, к своему учителю, за поддержкой и помощью. Вот и могила дорогого Александра Шамильевича… Так хочется посидеть здесь в одиночестве, раскрыться, наконец, перед другом и наставником, рассказать ему о своем горе, о том, что я навсегда оставила свой театр, смысл всей моей жизни, и как мне невыносимо трудно и больно.
Но внутренняя напряженность, железными тисками сковавшая душу, не отпускает меня ни на минуту. Я убираю его могилу цветами, стараясь вызвать в себе воспоминания того, уже далекого времени, когда, стоя на сцене, я видела перед собой его счастливое, улыбающееся лицо. Но не получается… В памяти всплывает лишь скорбная маска глубоко оскорбленного человека и день похорон, когда, тесно прижавшись к Борису Покровскому, я плакала здесь вместе с ним над открытой могилой…
— Ишь ты, сколько цветов-то принесла, небось недавно помер…
— Да нет, читай, — уже десять лет.
Я и не заметила, что толпа любопытных собралась вокруг. Надо уходить.
Прощайте, дорогой, незабвенный друг! Когда-то я еще снова приду сюда…
Ну, что же, теперь нужно сделать последний и самый трудный шаг — я должна поехать на дачу, в Жуковку, и попрощаться с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем.
До последнего дня я все не могла решиться пойти к нему, бесконечно дорогому человеку, которого вот теперь я оставляла в России. Боялась, что перед ним я выплеснусь и сломлюсь. Я знала, что своим безоговорочным авторитетом перед нами Шостакович — единственный, кто может заставить нас повернуть весь ход нашей жизни назад. Он это тоже знал, и он этого не сделал. Всем опытом своей жизни в этой стране он хорошо понимал, что теперь ждет нас здесь и что единственный для нас выход — на несколько лет отсюда исчезнуть.
Я сидела в его кабинете на том же самом месте, что и всегда, а напротив меня в кресле Дмитрий Дмитриевич. До последней степени напряженная, внутренне зажатая, я не слышала, что мне говорил Шостакович. Да и говорил ли он? Теперь мне кажется, что нет, что мы оба молчали, — я ничего не могу вытащить из черного провала в моей памяти. Последними усилиями воли я старалась заставить себя смотреть на него и не разрыдаться. Я знала, что он смертельно болен, что, возможно, я вижу его в последний раз, и одна наша встреча страшной картиной встала перед моими глазами.
Я вспомнила, как несколько лет тому назад я стояла вместе с ним вблизи открытого гроба его умершей секретарши Зинаиды Александровны Мержановой. Когда пришло время прощаться с покойной, я по русскому обычаю поцеловала ее в лоб и руку. Когда же я снова встала рядом с ним, то увидела, что он смертельно бледен.
— Что с вами, Дмитрий Дмитриевич?
— Вот вы сейчас поцеловали покойницу, а вам не страшно?
— Нет, чего же ее бояться… Помните, в вашей «Леди Макбет»? «Мертвых не бойся, страшись живых…»
— Не знаю, что это за странный обычай такой — покойников целовать.
— Мы с вами православные, и у нас так полагается — мы даем покойному наше последнее целование.
Он крепко сжал мою руку.
— А меня, мертвого, вы бы тоже так вот поцеловали?
— Конечно…
Он попытался усмехнуться, но получилась лишь жалкая гримаса.
— И вам бы не было противно?
— Нет…
И вот теперь я смотрю на дорогое, до мельчайшей черточки знакомое лицо, и мучительная боль терзает мне сердце. Как не показать ему своего отчаяния? Где же взять силы, чтобы встать и уйти?..
— Я пойду, Дмитрий Дмитриевич… До свидания…
Мы крепко обнялись, прощаясь, и вдруг… я услышала его рыдание! Господи! Чувствуя, что закричу сейчас в голос, что больше не выдержу этой муки, я исступленно целовала его в лицо, шею, в плечи… И с трудом оторвалась от него. От живого как от мертвого, зная, что никогда больше его не увижу.
— Приезжайте, Галя, будем вас ждать…
В последний раз заглянула в его залитые слезами глаза, в его бледное, искаженное, впервые передо мной обнаженное лицо и, рыдая, не видя перед собой дороги, побежала вниз по лестнице мимо стоящих внизу плачущих женщин.
Таким он и остался навсегда в моей памяти.
Я шла домой уже столько раз хоженной дорогой, и она казалась мне теперь бесконечно длинной, незнакомой и чужой. Я вдруг впервые ощутила себя отторгнутой от огромной земли, от моего народа, маленькой ненужной песчинкой, и чувство страшного одиночества охватило душу. Да ведь меня здесь просто-напросто уже нет, и дома моего тоже нет! Так куда же я иду?
Не доходя до дачи, я повернула назад и уехала в Москву, чтобы уже никогда больше не войти в свой когда-то родной дом.
Ровно через год, когда мы были на гастролях в США, на музыкальном фестивале в Танглвуде, нам позвонил из Австралии, где он гастролировал, сын Дмитрия Дмитриевича Максим и в отчаянии, рыдая сказал, что отцу очень плохо и что он немедленно вылетает в Москву. Слава кинулся искать лучших специалистов- онкологов, обещая заплатить им любые деньги, умоляя немедленно вылететь в Москву, попытаться спасти Шостаковича. Но было уже поздно.