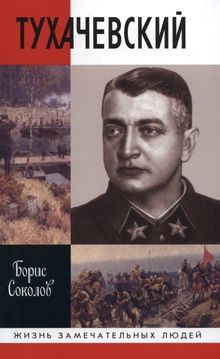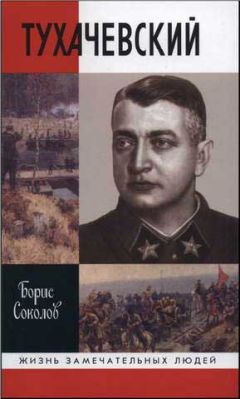Во-первых, сложившаяся вокруг меня невообразимая и неописуемая обстановка политического пачкания меня врагами народа и, во-вторых, — убийственный факт вопиющего преступления перед родиной бывшей моей жены является неоспоримым фактом, то первое, то есть политическое пачкание меня врагами и предателями народа, является совершенно необъяснимым, и я вправе назвать его трагическим случаем моей жизни.
Чем объяснить эту, сложившуюся вокруг меня чудовищную обстановку, когда для нее нет никакой политической базы и никогда не было такого случая, чтобы меня, или в моем присутствии, кто-либо призывал к выступлению против руководства партии, Советской власти и Красной Армии, т. е. вербовал как заговорщика, врага и предателя».
Егоров все еще на что-то надеялся, еще верил, что старый друг не выдаст, еще доказывал свою невиновность очевидными, как казалось маршалу, вещами: «Дорогой Климент Ефремович! Я провел в рядах нашей родной Красной Армии все 20 лет, начиная с первых дней ее зарождения еще на фронте в 1917 г. Я провел в ее рядах годы исключительной героической борьбы, где я не щадил ни сил, ни своей жизни, твердо вступив на путь Советской власти, после того, как порвал безвозвратно с прошлым моей жизни (офицерская среда, народническая идеология и абсолютно всякую связь, связь, с кем бы то ни было, из несоветских элементов или организаций), порвал все мосты и мостики, и нет той силы, которая могла бы меня вернуть к этим старым и умершим для меня людям и их позициям. В этом я также абсолютно безгрешен и чист перед партией и родиной. Свидетелем моей работы на фронтах и преданности Советской власти являетесь Вы, Климент Ефремович, и я обращаюсь к вождю нашей партии, учителю моей политической юности в рядах нашей партии т. Сталину и смею верить, что и он не откажет засвидетельствовать эту мою преданность делу Советской власти. Пролитая мною кровь в рядах РККА в борьбе с врагами на полях сражений навеки спаяла меня с Октябрьской революцией и нашей великой партией. Неужели теперь, в дни побед и торжества социализма, я скатился в пропасть предательства и измены своей родине и своему народу, измены тому делу, которому с момента признания мною Советской власти я отдал всего себя — мои силы, разум, совесть и жизнь. Нет, этого никогда не было и не будет».
Свидетельствовать о преданности Егорова советской власти Ворошилов не стал. А от «вождя и учителя» ответ пришел довольно скоро. 27 марта Егорова арестовали. Дальше — по стандартной схеме: отрицание вины — пытки — признание всех нелепых обвинений и оговор товарищей. По свидетельству одного из чекистов, Ежов пообещал Егорову сохранить жизнь, если он «раскается и вскроет преступную деятельность других лиц». Егоров вскрыл, но Ежов при всем желании обещания исполнить не мог: его сняли с поста наркома внутренних дел еще до окончания следствия по делу маршала. Расстреляли Егорова уже при Берии, в День Красной армии — 23 февраля 1939 года.
Не спасли Егорова ни дружба с Ворошиловым, ни то, что значительную часть Гражданской войны провел вместе с Климентом Ефремовичем и Иосифом Виссарионовичем, никогда не оспаривал их мнения по принципиальным вопросам и послушно возвеличивал роль Сталина в Гражданской войне. В глазах вождя все это перевесило прошлое членство маршала в партии левых эсеров и сравнительно высокий чин его в царской армии — полковник.
Достоверно неизвестно, писал ли Тухачевский письма Сталину и Ворошилову в короткий промежуток времени от снятия с поста заместителя наркома обороны до ареста. В любом случае, их тексты до наших дней не дошли. Но если писал, то, вероятно, в том же духе, что и Егоров. Только о дружбе с Ворошиловым, разумеется, не упоминал, поскольку отношения у них с Климентом Ефремовичем были как у кошки с собакой. А вот душевное состояние в те дни у Михаила Николаевича наверняка было таким же, как и у Александра Ильича Егорова. Тухачевский прекрасно знал, что ни в каком заговоре, а тем более шпионаже не виноват, и с тем большим недоумением и ужасом наблюдал, как после ареста Кузьминой и ссылки в Куйбышев нарастает отчуждение окружающих.
Кстати сказать, бросается в глаза, что из большинства тех военных, что арестовали после суда над Тухачевским, признания приходилось выколачивать с помощью мер физического воздействия. На примере участников «военно-фашистского заговора», большинство из которых, заметим, и бить-то не потребовалось, они убедились, что признание вины и раскаяние от расстрела не спасают, и пытались сохранять стойкость до конца. Только мало кому это удавалось. Имя же Тухачевского вплоть до смерти Сталина было непременным атрибутом почти всех «военных заговоров», придумываемых людьми Ежова и Берии, символом самого черного и подлого предательства.
Не очень надолго пережил Михаила Николаевича Тухачевского и главный архитектор его дела Николай Иванович Ежов. «Чистку» в партии и армии пора было на время приостановить. Надвигалась Вторая мировая война, и вскоре часть уцелевших военных, главным образом тех, кто так ничего и не подписал, выпустили и вернули в ряды Красной армии. Ежова же с поста наркома внутренних дел без особого шума убрали. Хотя случилось это 24 ноября 1938 года, в газетах о смещении Ежова было объявлено только 8 декабря. Любопытно, что за три дня до падения бывшего любимого сталинского «железного наркома», 21 ноября, при загадочных обстоятельствах в подмосковном санатории умерла жена Николая Ивановича Евгения Соломоновна Хаютина. Впоследствии ее, как и любовницу Тухачевского и жену Егорова, объявили шпионкой. По Москве ползли слухи, что Ежов отравил свою дорогую супругу, опасаясь каких-то разоблачений с ее стороны. С не меньшим успехом, правда, можно предположить, что Хаютину убрали люди Берии, несколькими месяцами ранее навязанного Ежову в заместители. Ведь на мертвую гораздо проще было навесить обвинения хоть в шпионаже, хоть в терроре, а затем притянуть к ним и уже впавшего в немилость у Сталина мужа жертвы.
«Мавр» Ежов тоже должен был уйти. Арестовали его 10 апреля 1939 года. На следствии Николай Иванович послушно показал, что давно подозревал жену в шпионских связях. К делу привлекли и бывшего любовника Хаютиной писателя Исаака Бабеля и сконструировали из всех троих шпионско-террористическую группу, замыслившую убить Сталина. Помимо традиционных заговора, шпионажа и подготовки терактов, Ежову добавили и более оригинальные, зато полностью соответствующие истине обвинения: в фальсификации уголовных дел и гомосексуализме (по тем временам, напомню, уголовно наказуемое деяние). На следствии Николай Иванович всё признавал. Его даже бить не пришлось. Ежов слишком хорошо знал, как развязывают языки, и не имел ни малейшего желания испытать на своей шкуре весь букет методов физического воздействия. А вот на суде, отрицал всё, кроме гомосексуализма. Да еще покаялся, но довольно своеобразно: «Есть и такие преступления, за которые меня можно и расстрелять… Я почистил 14 тысяч чекистов. Но огромная моя вина заключается в том, что я мало их почистил… Везде я чистил чекистов. Не чистил их только лишь в Москве, Ленинграде и на Северном Кавказе. Я считал их честными, а на деле же получилось, что я под своим крылышком укрывал диверсантов, вредителей, шпионов и других мастей врагов народа». Николая Ивановича конечно же расстреляли. Произошло это 4 февраля 1940 года. Подобно Тухачевскому, Якиру и многим другим, Ежов умер со словами «Да здравствует Сталин!». Парадоксально, но эта здравица объединяла в предсмертные минуты и жертвы, и палачей, в одночасье превратившихся в жертв.