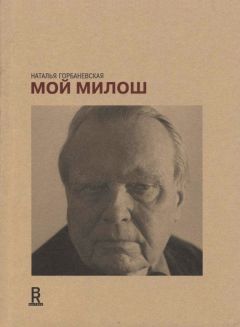Беркли, 1968
Ты спросил меня, что за прок в греческом чтеньи Евангелий.
Я отвечу, что нам пристойно пальцем водить вдоль строк,
Где литеры вековечней, чем высеченные в камне.
А также медленно-медленно выговаривать гласные,
Познавая подлинное достоинство языка.
Прикованному вниманью увидятся те времена
Вчерашнего дня не дальше, хоть нынешних кесарей лики
Другие на динариях. Продолжается тот же эон,
Те же и страх, и жажда, хлеб, вино и маслины
Означают всё то же. И прежняя шаткость толпы,
Жадной до чудес. Даже обряды и нравы,
Свадебные пиры, оплакиванье умерших
Отличаются только с виду. И в те времена, например,
Было полно таких, называемых в оригинале
Daimonizomenoi, то есть беснующихся
Или же бесноватых (ибо словцо «одержимый»
У нас в языке укрепилось по фантазии словаря).
Судороги, и пена на губах, и скрежет зубовный
В те времена не считались знаком таланта.
Не было у бесноватых журналов или экранов,
Изредка лезли они в искусство и в литературу.
А все-таки притча о них остается в силе:
Владеющий ими дух может войти в свиней,
И те, пораженные столь внезапным столкновеньем
Двух различных натур, дьявольской и своей,
Прыгают в воду и тонут. Снова, и вновь, и опять.
Так на каждой странице неутомимый читатель
Видит двадцать веков, словно двадцать дней,
Устремленный к пределу давний и всё тот же эон.
Беркли, 1973
Из книги «Хроники»
(Париж, «Институт литерацкий», 1987)
От переводчика: Я стараюсь не переводить то, что уже переводилось: русского Милоша, как я уже писала (см. статью «Человек-эпоха»), у нас не так много, чтобы позволять себе роскошь переводить заново. К сожалению, у меня во время работы не было антологии В. Британишского и Н. Астафьевой, так что я не могла сверить, чтó из книги «Хроники» раньше перевел Владимир Британишский. Уже переведя ряд стихов, я нашла на сайте «Журнального зала» небольшую подборку переводов Британишского из Милоша и обнаружила, что одно стихотворение («Родословная») я переперевела, а путем электронной переписки с московским коллегой выяснила, что в антологии есть стихотворение «Тревога-сон». Но уж раз дело сделано, решила печатать и эти переводы. В подборке Британишского (Старое литературное обозрение. 2001. №1/277) есть еще одно стихотворение из «Хроник» – «1911 год».
Несколько переводов из сборника «Хроники» читатель может найти в единственном русском избранном Милоша – «Так мало и другие стихотворения» (М.: Вахазар, 1993): «Только это» и «Признание» (пер. М. Осмоловской), «Мария Магдалина и я» (пер. А. Гелескула), «Те голоса, которые мной говорили…» (пер. Г. Ефремова), «За Уралом» (пер. С. Свяцкого).
Книга «Хроники» принадлежит к тем формам или жанрам, о которых я писала в вышеупомянутой статье: стихи нередко выходят за рамки собственно стихов (тут характерен конец стихотворения «За Уралом» – верлибр сменяется драматургической прозой диалога и завершается чисто прозаической концовкой, выдержанной в духе сухого комментария, но притом трагической), перемежаются «стихотворениями в прозе» и «прозой в прозе». То, что остается стихами и написано, как правило, верлибром, нередко тяготеет к польской силлабике, вводя то еле, а то и отчетливо слышную цезуру, становясь почти или вполне белыми стихами (что замечательно получилось у Анатолия Гелескула в переводе стихотворения «Мария Магдалина и я» и что я как раз попыталась сделать в переводе «Родословной»).
Мне хотелось бы, чтобы читатель этой подборки не только прочел неизвестные ему стихотворения, но и слегка ощутил характерную для Милоша структуру книги.
В тишине безграничной моего любимого месяца
Октября (багрянец кленов, бронза дубов, на березах
Еще там и сям светло-желтый лист)
Праздновал я остановку времени.
Обширное царство мертвых начиналось повсюду:
За поворотом аллеи, за газонами парков,
Но я не обязан был входить – оттуда меня не звали.
Моторные лодки на берегу, тропинки в хвое,
Река текла в темноте, ни огня по другую сторону.
Я собирался на бал дýхов и чародеев,
Куда является делегация в париках и масках
И танцует неопознанной в хороводе живых.
* * *
О безграничный, о неисчерпаемый, о несказуемый мир форм.
Как же я шел бы к тебе с философией, если ее силлогизмы взаимно опровергались и я остался столько же умным, как был, прежде чем углубился в ее тома. Как же я шел бы к тебе с нравственностью, если это значило бы, что я вопрошаю о нравственности или безнравственности дерева или камня. Когда-то я воображал, что в старости мы размышляем над тем, что вечно, вознесено над преходящим, но вижу, что всё иначе, что всё мое внимание обращено к мимолетному. На упрек, что я не умею постепенно возноситься к трансцендентности, отвечаю, как классики дзэна: мимолетное и вечное – это, быть может, две стороны одного и того же листа.
О безграничный, о неисчерпаемый, о несказуемый мир форм. Предстояло раздраться завесе, а мне тогда – познать тайну. Но поздно уже, и всё открыто или никогда не откроется. А я стараюсь день за днем избавиться от слов, которые до сих пор употреблял, и назвать то, что теперь я мыслю и чувствую – что ускользает от моих прежних слов. И кажется мне временами, что вся моя жизнь состояла в таком стремлении проникнуть по ту сторону слова, но по той же причине мои книги – всего лишь след движения вперед, или, по мне, всегда недостаточно голы. Новые упражнения в стиле, готовящие окончательный вариант, который не наступит.
1985
– Читали они, учили же о зрелище тщеславия.
И попусту: отнюдь их это не исцелило.
Готовы за грохот хвалы отдавать наслажденье
Кровавым бифштексом, и женским лоном, и даже
Отдачей приказов другим. Отрекаясь,
Лишь бы им остались: имя, венец, память.
– Тебе-то хорошо, ты-то этим сыт,
Лавры засушил, почести собрал,
Доброе, дурное ли скажут – а тебе все равно,
Потому что ты и так торжествуешь.
– Нет, не поэтому. Вечно, что ни день, что ни час,
Со мной недружелюбное и острое сознанье.
Не оставляет ночью, истерзывает сны.
То есть я знаю столько, что лучше бы закрыть лицо.
Тот, кто долго живет, размышляет о временах года,
О том, что их так много, каждый раз других.
Угадать пытается, кем он был в такой-то год и месяц,
Как тогда он видел мир и что понимал.
Особое, невозвратимое каждый раз понимание,
Хотя прибавляется разве что по одной линии, тени.
Отсюда – серьезный довод в пользу бытия Божия,
Ибо только Он способен составить перечень боли,
Смирения, блаженства, ужаса и экстаза.
Монархи выбрали остров тюрьмой Наполеону, поделили страны и установили свой порядок, обещая взаимную вооруженную помощь против заговорщиков и бунтарей. Добывали руду и каменный уголь, строили дороги и мосты, железные дороги соединили столицы. Паровозы, извергавшие пар, пробегая по лесам с ревом и грохотом, были предметом страха и поклонения, так же, как котлы, клапаны, колеса, приводные ремни в машиностроительных цехах. Керосиновая лампа под зеленым стеклянным абажуром начала заменять свечи и лучины, по улице большого города вечером шел человек с длинным металлическим прутом и зажигал газ в фонарях. Неисправимые мечтатели призывали народы восстать против подлой тирании сильных мира сего, власть и всяческие богатства предержащих. Наступал год, когда сражались на баррикадах, но отголосок сразу утихал, и дальше тянулся век империй на всем континенте от Атлантического до Тихого океана. Каждую зиму тысячи мастерских на чердаках или в подвалах готовили бальные платья, закалываемые перед зеркалом портнихой, которая стояла на коленях с булавками во рту. Поверили в Прогресс и открыли, что человек происходит от обезьяны. Всё больше развивались неизвестные предкам гуманные чувства, всё выше становилось просвещение, искоренявшее предрассудки и суеверия, в библиотечных залах загорелось электричество, по дну моря укладывали кабель для разговоров между материками, право и независимые суды защищали граждан, земля шла к победе парламентов и всеобщему миру.
Оркестр настраивал инструменты, чтобы играть «Весну священную».
Слышите шествие свистулек, грохот барабанов и меди?
Дионис наступает, из долгого изгнанья возвращается Дионис,
Кончилось царствование Галилеянина.
А Он, всё бледнее, бесплотнее, луннее,
Развеивается, оставляя нам темные соборы
С цветною водой витражей и звонком к Пресуществлению.
Благородный Равви, объявлявший, что будет жить вечно
И спасет Своих друзей, пробуждая их из праха.
Дионис наступает, сияет оливковым золотом в развалинах неба.
Крик его, наслажденья земного, разносит эхо во славу смерти.