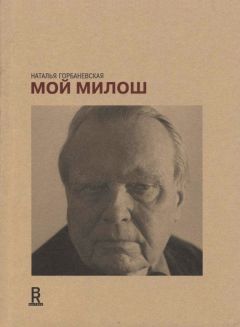Первое исполнение
(1913)
Оркестр настраивал инструменты, чтобы играть «Весну священную».
Слышите шествие свистулек, грохот барабанов и меди?
Дионис наступает, из долгого изгнанья возвращается Дионис,
Кончилось царствование Галилеянина.
А Он, всё бледнее, бесплотнее, луннее,
Развеивается, оставляя нам темные соборы
С цветною водой витражей и звонком к Пресуществлению.
Благородный Равви, объявлявший, что будет жить вечно
И спасет Своих друзей, пробуждая их из праха.
Дионис наступает, сияет оливковым золотом в развалинах неба.
Крик его, наслажденья земного, разносит эхо во славу смерти.
У нас наверно много общего друг с другом,
У всех, что вырастали в городах барóчных,
Не вопрошая, а какой король построил
Костел соседний и княжны какие жили
Вон в том дворце, как звали скульпторов и зодчих,
Откуда прибыли, чем стали знамениты.
А мы футболили под стройной колоннадой,
Носясь вдоль эркеров и мраморных ступеней.
Потом милее стали нам скамейки в темных парках,
Чем чаща ангелов лепных над головами.
А все ж мы сохранили что-то: страсть к изгибам,
Огнеподобную спираль противоречий
Да женщин ряженье в богатство драпировок,
Чтобы скелет прибавил блеску пляске смерти.
Узнаю их. Стоят на палубе
Парохода «Correct», вошедшего в устье Енисея.
Этот чернявый, в автомобильной кожаной куртке, —
Лорис-Меликов, дипломат. Этот толстый, Востротин, —
Владелец золотых приисков и депутат Думы.
Рядом тощий блондин, мой отец. И костлявый Нансен.
Фотография висит в нашем виленском доме
На Подгорной улице, 5. Рядом с моими
Тритонами в банках. Что может случиться
За десять лет? Начало? Конец? мира.
Мой отец, времен до. Не знаю, зачем он ездил
Летом девятьсот тринадцатого в унылые пустоши
Северного сияния. Какое смешенье
Времен. И мест. Я здесь, неспокойный,
Посреди калифорнийской весны: не складывается целое.
Чего я хочу? Чтоб было. Что? Чего уж нету.
Даже твои тритоны? Даже тритоны.
Орша – дурная станция. В Орше поезд может простоять и сутки.
И, может быть, в Орше я, шестилетний, потерялся,
А поезд с репатриантами тронулся, оставляя меня
Навсегда. И я будто понял, что стану кем-то другим,
Другого языка поэтом, с другой судьбою.
Будто угадывал свой конец на берегах Колымы,
Где бело дно моря от человеческих черепов.
И нашла на меня тогда великая тревога,
Та, которой предстояло быть матерью всех моих тревог.
Трепет малого перед большим[30]. Перед Империей.
Той, что идет и идет на запад, вооруженная луками, секретами,
автоматами,
Подъезжая коляской, лупя кучера по спине,
Или джипом, в папахах, с картотекой занятых краев.
А я убегаю да убегаю, сто, триста лет,
По льду и вплавь, днем и ночью, лишь бы подальше,
Оставляя над родною рекой дырявый панцирь да сундук
королевских грамот,
За Днепр, потом за Неман, за Буг, за Вислу.
Пока не добегаю до города высоких домов и длинных улиц,
И тревога меня терзает, ибо куда мне, деревенщине, до них,
Ибо я лишь притворяюсь, что понимаю, о чем они рассуждают
так живо,
И стараюсь утаить от них свой стыд, свое пораженье.
Кто меня накормит, когда иду на пасмурном рассвете
С мелочью в кармане, на чашку кофе, не больше?
Беженец из призрачных государств, кому ты будешь нужен?
Каменные стены, равнодушные стены, ужасающие стены.
Не моего ума порядок, а ихнего.
Теперь уж соглашайся, не дергайся. Дальше не убежишь.
Из записной книжки офицера Вермахта Рудольфа Грёте
(1944)
Белый город на равнине под высоким небом
День за днем стоит под тяжким пушечным обстрелом,
Линия домов от залпов крушится, чернеет.
Сыплет груз бомбардировщик. Сплошь да сплошь пожары.
Дым всё выше и всё гуще, до самого неба.
Стал столбом над горизонтом, черной вертикалью.
А людей не разглядеть мне в полевой бинокль.
Огнестрельного оружья треск очередями.
Но я знаю, чтó мы рушим. Малое свое.
Поколения обоев. Древности варений.
Запах капель от бронхита. Зеркала. Гребенки.
Чашки с блюдцами и вазы. Платья в нафталине.
Кровь, особенная жидкость, следа не оставит.
Вещи же в осколках живы. Через годы станут,
В металлических решетах слой земли просеяв,
Брать рукою осторожно крупицу фарфора.
– Ты, последний польский поэт! – обнимал меня, пьяный,
Авангардист-коллега[31], в длинной армейской шинели,
Что пережил войну на востоке и там всё понял.
Не мог обучить его этому ни Гийом Аполлинер,
Ни манифесты кубистов и ярмарка улиц парижских.
Против иллюзий лучше всего – голод, терпенье, смиренье.
Воображали себе. А шел двадцатый век.
Слова в их прекрасных столицах всё те же с Весны Народов.
Но не они отгадали, чтó же будут отныне значить.
В степи, кровоточащие ноги обматывая онучей,
Осознал он пустую гордыню высокопарной мысли.
До горизонта – земля, плоская, неискупленная.
Над всяким народом и племенем становилась серая тишь.
После звона в барочных церквях. После руки на сабле.
После диспутов о свободной воле и парламентских соображеньях.
Я только моргал глазами, смешной и мятежный,
Один с Иисусе-Марией против нерушимой силы,
Потомок стрельчатых актов, золоченых скульптур и чудес.
И я знал: говорить я буду речью побежденных,
Что не прочнее реликтов, домашних обычаев,
Елочных игрушек и раз в году забавных коляд.
Читая «Записную книжку» Анны Каменской
Читая осознал как она была богата а я беден.
Богата любовью и болью, плачем и снами, и молитвой.
Жила среди близких, мало счастливых, но помогавших друг другу,
Соединенных всё обновляемым на могилах пактом живых с умершими.
Ее радовали травы, полевые розы, сосны, картофельные поля
И запахи знакомой с детства земли.
Не была выдающимся поэтом. Но это справедливо.
Добрый человек не обучится хитростям искусства.
(Из книги «Дальние окрестности», 1991)
Из книги «Последние стихотворения»
От переводчика: Когда «Мой Милош» был уже составлен, вычитан, даже отправлен (в первом, неполном варианте) издателю, я вдруг испытала чувство, похожее на обиду. На себя, наверное.
В статье Мариана Стали о посмертном сборнике стихотворений Милоша я перевела то короткие, то побольше фрагменты стихотворений, но мне тогда и в голову не пришло заняться переводом целых стихотворений, кроме тех трех, которые прислала мне на перевод редакция «Новой Польши». Прислали три – ну, значит, и перевела три. Теперь я решила перевести целиком хотя бы те, что цитируются в статье Стали. Замечу, что переводить вырванные строчки – не то же самое, что переводить их же в контексте стихотворения, поэтому мне пришлось кое-какие цитаты в статье исправить в сравнении с первой публикацией. (Теперь эти стихи вместе с «Напоминанием», из которого я прежде тоже перевела лишь цитаты, напечатаны в «Новой Польше», в номере, вышедшем к столетию со дня рождения Чеслава Милоша). Зато оказалось, что два коротких стихотворения в статье Стали были приведены целиком, хотя из текста статьи это никак не вытекало.
Но на этом дело не кончилось. Когда уже шла верстка книги, у меня в Париже побывали литовцы, снимавшие со мной интервью о Милоше. И очень огорчились, что среди стихов из книги «Последние стихотворения» не оказалось «Доброты» – стихотворения Чеслава Милоша о его литовском родственнике, французском поэте Оскаре Милоше. И я огорчилась. А взявшись переводить «Доброту», нашла еще несколько стихотворений, которые мне очень захотелось перевести. Удалось мне перевести три (включая «Доброту»).
Стихи в этом разделе поставлены в том же порядке, в каком они напечатаны в посмертной книге.
Цирюльник пану Сырутю на смертном ложе
поставил клизму. Турбуленции тела
ваша милость храбро сносила до конца.
А не так-то легко избыть бытие
И уснуть навеки вплоть до воскресения.
Когда последняя косточка рассыплется
в сухую пыль
И деревни с городами исчезнут
Не найдя никаких былых названий.
Вернется на землю пан Шимон Сыруть
ковенский судья, литовский мечник,
с титулом витебского кастеляна.
Но не в те переменённые края,
что, пожалуй, было бы несправедливо.
Под ногою ощутит он вдоль Невежа дорогу,
деревушку Гинейты и паром в Вилайнах приветит.
Через тысячу лет будет вызван на Страшный суд
пан Шимон Сыруть
Среди тех, кто жил потом. Родня и знакомцы,
Неживые как и он но под фамилией
Прозоры и Забеллы.
Снова паром на Невеже и Ясвойны, Шетейны,
И белый костел в Опитолоках.
А судили вашу милость за пристрастье
К чинам и учрежденьям,
Которые ничего не значат,
Когда города и деревни исчезнут.[32]
Девяностолетний поэт подписывает свои книги