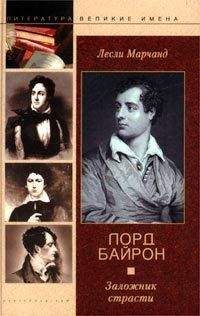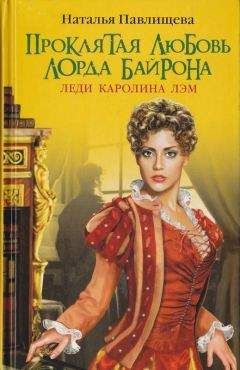Разочарованный отчет Хэнсона о том, что Собридж дал всего 2000 фунтов, был сглажен займом размером в 4800 фунтов от Скроупа Дэвиса, которому повезло за карточным столом. Байрон радостно сообщал Генри Друри: «Корабль на Мальту отойдет лишь через несколько недель, поэтому мы пройдем в виду Лиссабона. Хобхаус рьяно приготовился к написанию книги после возвращения домой: сотня перьев, два галлона японских чернил и несколько пачек отменной бумаги – неплохое подкрепление для проницательной публики. Я отложил свое перо, но пообещал внести свою лепту в виде статьи о нравах и трактата на ту же тему под заголовком «Упрощенная содомия, или Достойная восхищения педерастия от древних авторов до наших дней». Хобхаус надеется обезопасить себя в Турции от целомудренной жизни, демонстрируя свое «прекрасное тело» всему Дивану, то есть совету…
P.S. В Фалмуте нас зверски покусали блохи».
Мэттьюзу Байрон писал с веселыми намеками, составляющими их собственный, придуманный язык, о занимательных сторонах жизни Фалмута, города моряков, и «восхитительного уголка, которого, наверное, не найдешь нигде больше в нашем отечестве, отличающегося полным набором всевозможных развлечений на любой вкус. Мы окружены гиацинтами и другими душистыми цветами, и я собираюсь отобрать самый красивый букет, чтобы сравнить его с причудливыми азиатскими цветами. Один цветок я обязательно возьму с собой».
30 июня на борту лиссабонского пассажирского судна «Принцесса Елизавета» Байрон написал для Ходжсона веселые строчки, в которых изображается шторм на море:
При последнем издыханье,
Проклиная все вокруг,
Завтрак вместе со стихами
Выблевал Хобхаус в люк.
Словно в Лету…
(
Перевод Ю. Петрова)
Но путешествие началось только 2 июля. Несмотря на шутливые письма, настроение Байрона, покидающего родные берега, было более чем обычно сентиментальным и тоскливым. Отдав должное насмешкам и преувеличениям, он отразил чувства и мотивы своего отъезда в первой песне «Паломничества Чайльд Гарольда». Через грустные строки пробивается воспоминание о веселых приключениях, которые ожидали Байрона в чужих краях.
Глава 7
«Паломничество Чайльд Гарольда»
1809–1810
Корабль плыл быстро: уже через четыре с половиной дня после выхода из Фалмута он приблизился к устью реки Тахо. В то время как душа Байрона была полна возвышенных мыслей, бунтующий желудок сильно беспокоил его, несмотря на относительно тихую погоду на море. Он признавался Ходжсону: «У меня морская болезнь, и меня мутит от моря». Когда на палубе появились португальские лоцманы, молодой англичанин с потрясающей ясностью и восторгом ощутил, что находится в чужих краях. «Я очень счастлив, – писал Байрон Ходжсону, – потому что обожаю апельсины и беседую на ужасной латыни с монахами, которые тем не менее ее понимают, потому что она не сильно отличается от их языка. Я хожу в город (с пистолетами в карманах), переплываю Тахо, езжу на осле или на муле и ругаюсь по-португальски, у меня расстройство желудка, и я весь искусан москитами».
Хобхаус, начавший вести дневник со дня прибытия в Лиссабон, в основном описывал грязь, бедность и невежество страны. Война на полуострове была в полном разгаре. Сэр Артур Уэллесли находился на границе и через месяц поклялся войти в Мадрид и вообще, по словам Хобхауса, «был городским богом». Несмотря на то что англичане считались союзниками и освободителями, в городе процветали жестокость и мошенничество, поэтому разумно было появляться там лишь с оружием, особенно ночью.
11 июля Байрон и Хобхаус отправились в Синтру. Байрон сообщал матери, что «деревня эта, вероятно, один из самых пленительных уголков в Европе. Среди скал, водопадов и ущелий высятся дворцы и сады; на утесах расположились монастыри, откуда открывается восхитительный вид на реку Тахо и море…». Но прекраснее всего мавританский дворец Монтсеррат, где жил Бекфорд, автор «Ватека».
Чтобы скоротать время в Лиссабоне, Байрон переплывал широкое устье Тахо и выходил на берег близ замка Белем, что было, по мнению Хобхауса, поступком более отважным, чем пересечь Геллеспонт. Через две недели им надоела Португалия, и они решили верхом отправиться в Испанию, посетив Севилью и Кадис. Слуги и багаж на корабле должны были идти к Гибралтару. Байрон взял с собой Роберта Раштона и нанял проводника-португальца по имени Сангинетти, чтобы он провел их по полуострову. То, что эта земля совсем недавно была полем битвы, лишь еще больше усиливало ее притягательность.
В Севилье, штабе повстанческой армии и союзников, где было полно народу, Байрон и Хобхаус сняли квартиру у двух незамужних дам, Хосефы Бертрам и ее сестры, на Калль де лас Крусес, 19. Хобхаус откровенно писал: «Без обеда и ужина легли спать в маленькой комнатушке вчетвером в одну кровать». Однако Байрону эти неудобства не доставили раздражения. Матери он писал: «Старшая сестра окружила твоего недостойного сына особым вниманием, нежно обняла его при расставании (я жил там три дня), срезала прядь его волос и подарила на память свою, около трех футов в длину, которую я и посылаю тебе и умоляю сохранить до моего возвращения. Ее последние слова были: «Adios, tu hermoso! Me gusto mucho» – «Прощай, красавец! Ты мне очень нравишься». Она предложила мне часть квартиры, однако скромность вынудила меня отказаться».
Байрон был в восторге от Испании. Он писал Ходжсону: «Лошади великолепные, в день мы делаем семьдесят миль. Довольствуемся яйцами, вином и жесткими постелями – вполне достаточно в этом знойном климате. Чувствую себя лучше, чем в Англии. Севилья – красивый город, а Сьерра-Морена, которую мы переходим, – крупная горная гряда, но поистине дьявольская». Позднее о Севилье – родном городе Дон Жуана – он сказал: «Красивый город, знаменитый своими апельсинами и женщинами». В Кадисе Байрон был поражен великолепием боя быков и посвятил ему одиннадцать куплетов «Дон Жуана», однако жестокость этого зрелища вызвала у него отвращение, особенно ужасно было видеть, как «дико мечется измученная лошадь».
В целом о Кадисе у Байрона остались самые теплые воспоминания. «Кадис, милый Кадис! – писал он Ходжсону с Гибралтара. – Самый прекрасный уголок мироздания. Красота улиц и особняков еще больше подчеркивается красотой их обитателей. Кадис – обитель Цитеры. Многие вельможи, оставившие разрушенный войной Мадрид, обосновались здесь, в этом самом прекрасном и чистом городе Европы. По сравнению с ним Лондон просто грязен».
Байрон писал матери, что в ночь перед отъездом он сидел в ложе в опере с семьей адмирала Кордовы. В своем дневнике Хобхаус записал: «Б. был в ложе с мисс Кордовой. Он вел себя как влюбленный безумец…» Байрон писал: «Дочь адмирала отобрала у старухи (тетушки или дуэньи) стул и приказала мне сесть рядом с собой, подальше от своей матери».
Романтическое увлечение огненной красавицей нашло отражение в стихах «Девушка из Кадиса»:
Британки зимне-холодны,
И если лица их прекрасны,
Зато уста их ледяны
И на привет уста безгласны;
Но Юга пламенная дочь,
Испанка, рождена для страсти…
(
Перевод Л. Мея)
Однако когда чары рассеялись, Байрон признался: «Вне сомнения, они очаровательны, но головки их полны только одним: интригами».
На борту фрегата «Гиперион» 3 августа Байрон обогнул мыс Трафальгар и на следующий день увидел Гибралтар, так непохожий на Севилью и Кадис, «самое грязное и отвратительное место на земле». Байрон и Хобхаус каждый день поднимались на скалу полюбоваться заходом солнца и обратить мечтательные взоры на берега Африки, потому что перед тем, как добраться до Азии, Байрон надеялся увидеть и этот континент. Однако его мечты развеял встречный ветер.
Когда наконец из Лиссабона прибыли слуги и багаж, Байрон и Хобхаус стали спешно собираться к отплытию на Мальту на корабле «Тауншенд». Байрон отправил Джо Меррея домой, потому что тот был слишком стар для путешествия по Востоку. За ним последовал и Роберт Раштон, «потому что в Турцию мальчикам его возраста было опасно ехать». Когда 15 августа корабль отправился в путь, из всех слуг Байрона сопровождал только верный Флетчер. Джон Голт, находившийся на борту, заметил, что «Хобхаус, в котором было больше простоты, быстро сошелся с другими пассажирами, а Байрон держался особняком и часто сидел на корме, прислонившись к вантам…». Однако на третий день его настроение изменилось, и он стал более общительным. Вместе с другими пассажирами он принялся стрелять по бутылкам. Но с наступлением ночи он вновь вернулся на ванты и часами сидел там в молчании.
Можно предположить, что причиной мрачного расположения духа Байрона была разлука с Робертом Раштоном, о котором он не переставал думать. Матери он писал: «Умоляю тебя, будь к нему добра, потому что я его очень люблю…» Байрон попросил отца мальчика выделить 25 фунтов из арендной платы на обучение Роберта. «В случае моей смерти он не будет ни в чем нуждаться согласно моему завещанию». Это завещание Байрон составил 14 июня 1809 года; по нему Раштон будет получать 25 фунтов ежегодно в течение всей жизни, а после смерти Джо Меррея эта сумма увеличится еще на 25 фунтов. В завещании, написанном в мрачном тоне после отъезда из Англии, Байрон просил, чтобы вся его библиотека перешла к лорду Клэру, земли и вся собственность – к Хобхаусу и Хэнсону, а мать должна была до самой смерти получать ежегодно 500 фунтов. Байрон пожелал «быть похороненным в склепе Ньюстедского аббатства без всякой траурной церемонии: никакой службы, священников и монумента с надписью, кроме имени и даты смерти. При этом памятник на могиле собаки не должен быть потревожен».