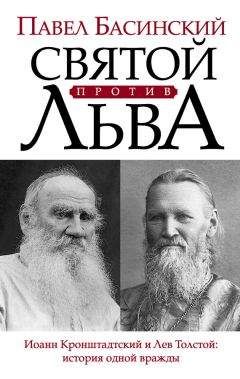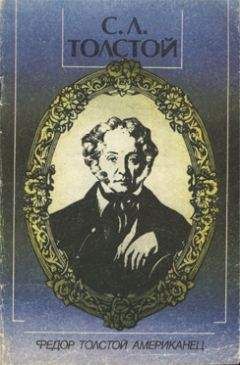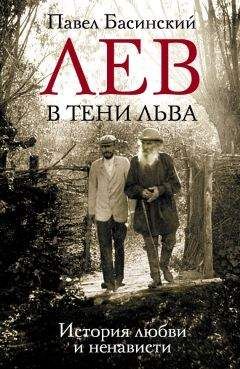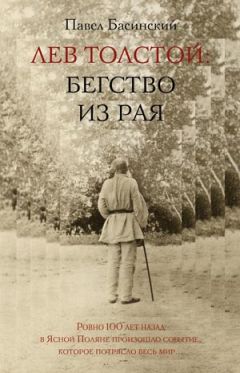Менее чем за год до смерти, в феврале 1908 года, отец Иоанн все еще продолжал получать весточки-напоминания, как могла бы сложиться его судьба, не поступи он в академию и вернись на родину. Например, ему пишет деревенский священник Михаил Афанасьев, который был женат на его племяннице Татьяне.
«Многоуважаемый и Добрейший
Наш Дядюшка Отец Иоанн Ильич
Будьте здоровы на многая лета!
Уведомляем Вас, Дорогой Дядюшка О. Иоанн, что сегодня мы получили от Вас опять деньги (200) рублей. От всей души благодарим Вас, Дорогой Дядюшка, за Ваши милости, за Вашу доброту к нам недостойным! Двести рублей для нас капитал и капитал большой! Я, напр<имер>, получаю Священнического жалованья 107 р. в год; значит за 200 р. нужно служить почти два года; или за законоучительство в Министерском Училище в год получаю 30 (тридцать) рублей, след<овательно> за 200 р. нужно служить почти семь лет! Спаси же Господь и помилуй Вас, Дорогой Дядюшка, за Вашу милость! Дай Вам Бог доброго здоровья!»
Когда Иоанн Кронштадтский готовил неистовые проповеди против боярина Льва Толстого, восставшего на Православную Церковь и на ее священников, он, возможно, вспоминал эти письма.
Для Ивана Сергиева не годилась мораль, которую любил повторять Толстой: где родился, там и сгодился. Не окажись Иван в академии, не стал бы он и протоиереем Андреевского собора в Кронштадте, не стал бы Кронштадтским.
Не стал бы самим собой.
Вообразите себе мальчика, обученного грамоте неграмотной матерью, которого отец на последние деньги отдает в духовное училище, затем в семинарию. От него ждут успехов в учебе, а он элементарно не может читать. Звуковой ряд и печатные буквы не соединяются в детском сознании – никак!
«Отец купил для меня букварь, – вспоминал он, – но туго давалась мне грамота, и много скорбел я по поводу своей неразвитости и непонятливости. Я не мог никак усвоить тождество между нашей речью и письмом или книгою, между звуком и буквою. Да это в то время и не преподавалось с такою ясностью, как теперь; нас всех учили: “Аз, Буки, Веди”, как будто “А” само по себе, “Аз” само по себе; мудрости этой понять я долго не мог, и когда меня, на десятом году, повезли в Архангельское приходское училище, я с трудом разбирал по складам и то только по печатному».
Вместе с унижением на фоне более успешных сверстников Ваня Сергиев испытывает вину перед родителями, которые лишают себя последнего куска ради него, такого беспомощного – и бездарного. Из этого душевного тупика для личности яркой и неординарной может быть только два выхода. Первый – взбунтоваться против судьбы (Бога). Второй – полностью довериться Богу и просить Его помощи. Иван Сергиев не выбирает для себя этот второй путь – он просто не представляет себе иного.
«…Ночью я любил вставать на молитву. Все спят – тихо. Не страшно молиться, и молился я чаще всего о том, чтобы Бог дал свет разума на утешение родителям. И вот, как сейчас помню, однажды был уже вечер, все улеглись спать. Не спалось только мне, я по-прежнему ничего не мог уразуметь из пройденного, по-прежнему плохо читал, не понимал и не запоминал ничего из рассказанного. Такая тоска на меня напала; я упал на колени и принялся горячо молиться. Не знаю, долго ли пробыл я в таком положении, но вдруг точно потрясло меня всего… У меня точно завеса спала с глаз, как будто раскрылся ум в голове, и мне ясно представился учитель того дня, его урок; я вспомнил даже, о чем и что он говорил. И легко, радостно так стало на душе. Никогда не спал я так покойно, как в ту ночь. Чуть засветлело, я вскочил с постели, схватил книги, и – о счастье! – читаю гораздо легче, понимаю всё, а то, что прочитал, не только всё понял, но хоть сейчас и рассказать могу. В классе мне сиделось уже не так, как раньше: всё понимал, всё оставалось в памяти. Дал учитель задачу по арифметике – решил, и похвалили меня даже. Словом, в короткое время я подвинулся настолько, что перестал уже быть последним учеником. Чем дальше, тем лучше и лучше успевал я в науках и к концу курса одним из первых был переведен в семинарию».
Этот эпизод из воспоминаний отца Иоанна можно трактовать по-разному. Можно как Божье чудо. Но каждый, кто усердствовал в изучении трудного, не дающегося предмета (например, иностранного языка), знает, что подобное «вдруг» («точно завеса спала с глаз») происходит со многими самыми обычными людьми и является простым следствием накопления внутренних усилий. Но для нас важнее другое.
Иван Сергиев в своих «школах» проходил сквозь игольное ушко. Всё было ненадежно и зыбко. Не получая помощи извне (кто будет специально заниматься с мальчишкой из бедной семьи, отец которого непрестанно писал и в училище, и в семинарию просительные письма, чтобы одного из его сыновей, из двух Иванов, взяли на казенный кошт?), Сергиев мог рассчитывать только на собственную волю – и на Промысел Божий.
Именно твердая воля определила модель его тихого поведения, когда он остался одиночкой среди сверстников и по училищу, и по семинарии, и по академии. Да, он лишился друзей. Но избежал и соблазнов, неизбежных в этих случаях. Он собрал себя, а не потратил.
Что же касается Промысла Божьего… Вот один вроде бы случайный факт. Во всех биографиях написано, что в академию он был послан потому, что закончил семинарский курс первым учеником. Но биографы не располагали документами, которые открыла в архангельских архивах Ю.В.Балакшина. Она пишет:
«К 1850 году в Высшем отделении семинарии произошел конфликт, прямо не касавшийся Ивана Сергиева, но повлиявший на его дальнейшую судьбу. До апреля 1850 года первым учеником отделения по всем спискам значился Александр Павлов, а Иван Сергиев обычно занимал третье место. Вероятно, именно Павлов был бы направлен для продолжения духовного образования в Петербург. Однако 2 апреля 1850 года он не явился на утреню, о чем была сделана запись в дисциплинарном журнале. В наказание за проступок архимандрит Иларион назначил ему “стоять на коленях в течение одного класса”, но Павлов отказался выполнить приказание инспектора и пошел на прямой конфликт с ним… В результате возмущенный архимандрит вышел из класса и подал докладную записку на имя ректора с предложением наказать Павлова розгами. Но Семинарским правлением было принято иное решение: “Недуг Павлова, состоящий в самомечтании и неповиновении одному из главных своих начальников и наставников, надобно лечить не скоропреходящею мерою, а посему, не наказывая его телесно, лишить ныне же первого разряда…” В следующем 1851 году Александр Павлов был снова причислен к первому разряду, но первым учеником класса он больше не стал, и почетное право учиться в Петербургской духовной академии перешло к Ивану Сергиеву».