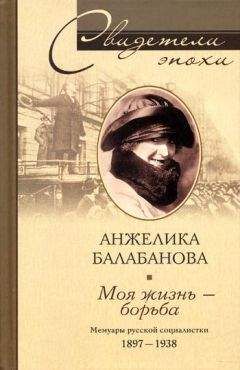Работа по переводу небольшой брошюры не заняла много времени. Когда мы вместе работали над ней, я видела, как много такая работа значит для него, как она стимулирует его амбиции. Было очевидно, что он презирает физический труд, и я догадалась, что, по крайней мере отчасти, его жалкое положение, его неспособность приспособиться к жизни в Швейцарии среди эмигрантов проистекали оттого, что ему оставалось только выбирать между бродяжничеством и самым непритязательным трудом. Он ненавидел социальные привилегии, но быть пролетарием не хотел. Его мать была школьной учительницей, и он сам недолгое время преподавал в начальных классах в Италии. По этим причинам он считал себя интеллигентом, лидером, а контраст между его представлением о себе и унижениями повседневной жизни зародил в нем преувеличенную жалость к себе и острое чувство несправедливости жизни по отношению к нему.
Когда мы работали вместе, я старалась дать ему почувствовать, что я скорее его коллега, чем учитель, чтобы он не ощущал свою зависимость от меня. Его уверенность в себе возрастала день ото дня, он стал более внимателен к своей внешности, и в его манерах стало меньше истеричности.
Вскоре я увидела, что он мало знает из истории, экономики и теории социализма, что его ум совершенно не тренирован. Его отец был анархистом и в 70-х годах входил в Первый интернационал как ученик Бакунина. Позднее он стал социалистом. Бенито Муссолини вырос среди радикального окружения в самой революционной провинции Италии – Романье. Не быть в Романье социалистом либо анархистом означало бы для него плыть против течения. Для того чтобы быть в той провинции не рабочим, а кем-то еще, но не радикалом, вероятно, требовалось мужество. Радикализм и антиклерикализм Муссолини были только отголосками его раннего окружения и отражением собственного мятежного эгоизма, нежели результатом понимания и убежденности. Его ненависть к угнетению не была той безликой ненавистью к системе, которую разделяли все революционеры. Она возникла из его личного чувства униженности и неудовлетворенности, из его страсти к самоутверждению и из решимости взять личный реванш.
Я стала понимать эти вещи. Постепенно, конечно.
Так как наше сотрудничество при переводе брошюры Каутского усилило его уверенность в себе, подняв на миг от положения бродяги до статуса «писателя», он стал более криклив и напорист во время дискуссий, которые каждый вечер проходили в клубе итальянских социалистов. И хотя он не прочел ни одной страницы из Маркса, за исключением «Коммунистического манифеста», он не колеблясь энергично спорил как с рабочими-социалистами, так и с настоящими интеллектуалами, среди которых некоторые изучали Маркса много лет. Он не верил в политическое просвещение масс и выражал свое презрение к такому «градуализму» в громких и горячих речах.
– Он бланкист, а не социалист, – заметил однажды один рабочий, и в той степени, в которой у Муссолини была хоть какая-то концепция социальной программы, это было, без сомнения, верно. Он любил поговорить о философии, но его политические взгляды всегда были отражением той последней книги, которую ему случайно удалось прочитать. Писателями, которые больше всего привлекали его, были Ницше, Шопенгауэр, Штирнер – люди, которые прославляли волю, мыслящую личность и деяния отдельного человека, нежели масс. Он неизбежно должен был заразиться теориями французского радикала Бланки, который понимал революцию как бурный государственный переворот и захват власти небольшой группой революционеров-заговорщиков. И именно в революционном авантюризме Бланки, нежели в революционном коллективизме Маркса следует искать ключ к последующей карьере Муссолини.
Если я в то время более терпеливо относилась к его напыщенному индивидуализму и его претензиям на философию, чем другие итальянские революционеры, особенно более практичные рабочие, то это было, вероятно, потому, что я понимала то, чего не понимали они: его эгоизм, восхваление силы и физической храбрости были компенсацией его собственной слабости, его жажды личного признания и авторитета. Как только он оправится умом и телом, говорила я себе, как только он по-настоящему почувствует себя равным, а не стоящим на более низкой ступени по отношению к другим людям, как только его язвительность ослабнет благодаря человеческому пониманию и сочувствию, его самоуверенность, его детское стремление к власти и сумятица в голове пройдут. В конце концов, он ведь был очень молод; учеба, опыт работы в дисциплинированных, организованных рабочих движениях могли бы помочь ему стать успешным агитатором за социализм, истинным революционером, а не возбужденным демагогом.
Если Муссолини когда-либо и был искренен с кем-либо, то, полагаю, этим кем-то была я. Он очень много рассказывал о себе, о своем горьком детстве (хотя, когда он рассказывал о нем, мне оно показалось гораздо менее суровым, чем у большинства итальянских рабочих), о страданиях и лишениях, которые ему пришлось вынести с тех пор, как он бежал из Италии, спасаясь от военной службы. Он искал, по его словам, работу помощника каменщика во всех больших городах, но из-за сочетания физического нездоровья и полицейских преследований его усилия не увенчались успехом. Несмотря на случайные заработки в роли помощника мясника, грузчика, посыльного и на помощь, получаемую им от товарищей, которым жилось немногим лучше его, он узнал, что такое сильный голод на протяжении нескольких дней. Он был вынужден просить подаяние у ненавистных ему буржуа, и несколько раз его арестовывали за бродяжничество. В прошлом году в Берне он участвовал в забастовке каменщиков и был изгнан из этого кантона как «анархист».
Всякий раз, когда я встречалась с Муссолини, я побуждала его читать, учиться и давала ему брошюры и книги.
– Недостаточно быть бунтарем, – говорила я ему. – Вы не можете уничтожить несправедливость, просто злясь на нее. Вы не можете разумно вести за собой рабочих, если вы не знаете ничего о рабочем движении. Вы должны понимать его историю, его неудачи и успехи, а также причины того и другого!
Возможно, ему кое-что было известно о моем происхождении, и это знание возбуждало в нем снобистскую гордость от общения с представителем того класса, который он делал вид, что презирает, – а отчасти, возможно, потому, что я была женщиной, рядом с которой ему не нужно было доказывать, что он равен или стоит выше других мужчин. Он, похоже, не обижался ни на мои советы, ни на мои упреки. Ему нужен был кто-то, на кого он мог опереться, а его тщеславие никогда не позволяло ему опереться на мужчину. Он не делал попыток скрыть от меня свою слабость. Если бы он делал это, я, вероятно, должна была бы испытывать по отношению к нему меньшее сострадание, и он, несомненно, понимал это. На протяжении всего нашего общения меня связывало с ним понимание того, что я единственный человек, с которым он был абсолютно самим собой, с которым он не напрягался, потому что ему не нужно было лгать. И на протяжении десяти последующих лет он всегда не колеблясь пользовался чувством ответственности, которое это понимание налагало на меня.