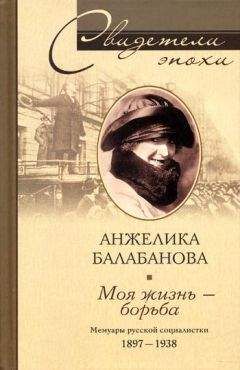Спустя годы Муссолини приписал этот свой отъезд из Швейцарии «тоске по дому, которая расцветает в сердцах всех итальянцев… Обязательная служба в армии звала меня».
Не прошло и года, как король в честь своего дня рождения издал указ об амнистии политическим беженцам и всем дезертирам, которые желали вступить в армию по возвращении.
Я не виделась с Муссолини, пока он не проехал через Лугано по пути в Италию. Он написал мне из Тренто, где он завел себе больше друзей скорее среди патриотов, которые позднее оказали влияние на его карьеру, чем среди социалистов. Он писал, что в Австрии он имеет определенный успех как журналист, и его письмо дышало самоуверенностью. Когда он написал, что планирует написать историю философии, я не могла не позабавиться. Было естественно, что небольшая доза успеха и стабильности после нищеты и поражений в годы его пребывания в Швейцарии ударила ему в голову. Пройдет какое-то время, говорила я себе, и Муссолини придет в норму.
Я продолжала жить в Лугано с Марией, когда он проезжал через наш город, возвращаясь в Италию. Тем временем я узнала, что Мария сильно невзлюбила Муссолини со времени своей первой встречи с ним в Швейцарии во время пропагандистской поездки.
– Я никогда не верила, что какие-либо его убеждения имеют глубокие корни, – сказала она мне. – Он слишком эгоцентричен, чтобы радеть как о деле, так и о других людях.
– Но вспомни, Мария, каким было его детство, – спорила я. – Он никогда не был счастлив, у него ничего не было. На протяжении многих лет он был болен и одержим чувством неполноценности. Даже по сравнению со средним рабочим его жизнь была жалкой.
– Ты еще увидишь, – ответила Мария.
Однако в день его приезда она согласилась приготовить обед, как она всегда делала, когда к нам приходили гости, потому что она была гораздо лучшей поварихой, чем я. Когда появился Муссолини, я с удивлением обнаружила, что его пребывание в Тренто мало изменило его внешность и его взгляды. Как это всегда было в Швейцарии, он казался изголодавшимся и сказал нам, что, если бы мы не пригласили его на обед, ему нечего было бы есть в этот день.
– Кто приготовил эти макароны? – спросил он, пока набивал себе желудок. – Держу пари, это была ты, Мария.
– Возможно, ты предпочел бы что-нибудь другое, – ответила Мария презрительно, – цыпленка или трюфелей, но мы, видишь ли, пролетарии…
Он сердито посмотрел на нее:
– А почему бы и нет? До того как я приехал сюда, я прочитал в гостинице меню. Я чуть с ума не сошел! Если бы вы только знали, что едят и пьют эти свиньи. Если бы когда-нибудь в своей жизни я мог…
Мария в гневе прервала его:
– Почему ты всегда говоришь о себе, о своих аппетитах? Боюсь, что, если бы у тебя была возможность пожить как те люди, ты скоро забыл бы народ…
Между ними произошла бы крупная ссора, если бы я не сменила тему. Я испытывала острое разочарование, найдя его неизменившимся. Куда девался его апломб, наполнивший его письмо ко мне? Он был таким же неуравновешенным, таким же истеричным, каким был в Лозанне. Возможно, письмо было написано, чтобы произвести на меня впечатление.
Когда ему пришла пора уезжать, мы с Марией прошлись с ним до пирса. Даже красота озера в лунном свете и торжественность гор не могли отвлечь его внимание от себя.
Пока мы ждали отплытия парохода, он махнул рукой в сторону ресторанов и гостиниц, расположенных вдоль набережной:
– Посмотрите! Люди едят, пьют, наслаждаются жизнью. А я буду плыть третьим классом, есть жалкую, дешевую еду. Porca Madonna, как я ненавижу богатых! Почему я должен страдать от этой несправедливости? Как долго мы должны ждать?
Я вспомнила его рассказ о двух англичанках в Лозанне.
Я находилась в Лугано, когда пришли вести о русской революции 1905 года, о всеобщей забастовке в Санкт-Петербурге, мятежах в Кронштадте и Севастополе, созыве Первой Думы, контрреволюционном терроре и последовавших погромах. Волнение русских эмигрантов едва ли превышало возбуждение среди итальянцев. Важно то, что итальянские народные массы из отсталой, по общему мнению, страны продемонстрировали такую солидарность со своими русскими товарищами, равной которой не было среди рабочих любой другой страны.
Большая часть моей деятельности в то время была посвящена пробуждению сочувствия к русским революционерам и сбору денег для них. Я ездила по всей Италии, выступала на сотнях массовых митингов в больших городах и перед небольшими группами людей в отдаленных деревнях. Везде меня приветствовали с невообразимым энтузиазмом. Однажды вечером, когда я выступала в большом зале в Триесте, я рассказала о героической борьбе революционерки Марии Спиридоновой, которая посвятила свою жизнь русским крестьянам. В то время с политическими заключенными принято было обращаться с определенным уважением, а то, как обращались с Марией русские жандармы, всколыхнуло негодование всего мира. Когда я рассказывала о том, как один из караульных прижигал руку Марии зажженной папиросой, меня внезапно прервал крик с галерки: «Мы отомстим!» Вся аудитория встала, как один, и это была самая спонтанная демонстрация, которая когда-либо происходила на моих глазах. Когда я, наконец, получила возможность завершить свою речь и мы уже покинули зал, к нам присоединились тысячи людей, стоявших снаружи и не сумевших попасть внутрь. Несколько часов в ту ночь можно было слышать, как толпы людей кричат на улицах: «Да здравствует русская революция! Да здравствует социализм!»
(С 1918 года Мария Спиридонова была заключена в русскую тюрьму из-за своей оппозиции по отношению к большевикам, и ее имя редко упоминалось в мировой прессе. Но об этом другой рассказ.)
Этот митинг не был исключением. Сотни подобных прошли по всей Италии. Ни в какой другой стране сочувствие жертвам царизма не было так широко распространено. После 1905 года, когда Максим Горький, уже один из самых известных писателей в мире, был делегирован на сбор средств для жертв русского царизма в Соединенные Штаты Америки, все собранное им составило одну треть от той суммы, которую я собрала среди итальянских рабочих и крестьян. А они жили в условиях, которые показались бы невыносимыми большинству американских рабочих. Миссия Горького была отмечена сенсационными событиями. Его отказались принять в нью-йоркской гостинице, где он попытался зарегистрироваться вместе с русской актрисой Андреевой, с которой он жил какое-то время, и американские консерваторы начали разжигать против него ужасную скандальную кампанию. Отношения, принимаемые в Европе как само собой разумеющееся, слишком напрягли сознание американских буржуа. Даже Марк Твен присоединился к хору их голосов, на который ответили радикалы и интеллигенция, сплотившиеся в защиту Горького.