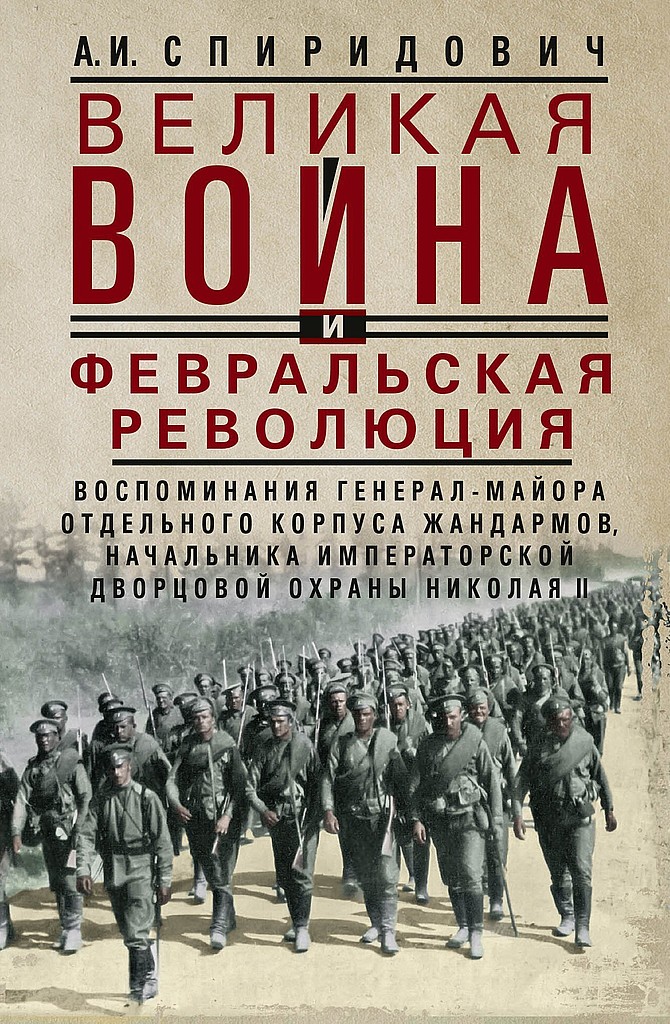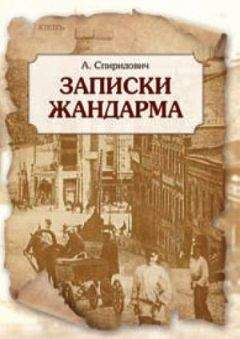решила поспешить с ликвидацией и распорядилась произвести обыски до моего приезда в Томск.
Двадцать третьего сентября местная томская жандармерия в сопровождении наряда полиции и филеров нагрянула неожиданно на переселенческий пункт, где в домике администрации была обнаружена на полном ходу типография социалистов-революционеров. В ней были застигнуты Барыков, Вербицкая, Севастьянова [65] и, кажется, еще фельдшерица Мутных. Отпечатанные частично экземпляры третьего номера «Революционной России» сушились развешенными по всем комнаткам. Был обнаружен архив журнала с богатым рукописным материалом в виде подлинных писем из разных городов. Кроме работавшего станка нашли также и части прежней печати. Работою руководил Барыков, фельдшерицы же исполняли роль наборщиц. Медицинские щипчики служили для захвата букв. В ту же ночь были арестованы в Томске врач Павлов с женой, а также были произведены аресты и по другим пунктам Сибири.
Я узнал об аресте типографии в пути. Однажды вечером, на участке между Омском и Томском, пассажиры нашего поезда были встревожены необычной остановкой его на разъезде среди степи. Завывала метель. Остановился и встречный поезд. Поднялась суета, бегала поездная прислуга. Оказывается, искали меня и, найдя в салон-вагоне, где мы мирно играли в шахматы, попросили во встречный поезд. Там находился прокурор Омской судебной палаты Ераков, возвращавшийся в Омск из Томска, где он ознакомился с результатами обыска. Он хотел познакомиться со мною.
Поздоровавшись, прокурор палаты сразу огорошил меня вопросом:
– Какие вы имеете агентурные сведения по этому делу?
Как ни неожидан был вопрос, я ответил, что агентурных сведений у меня нет никаких.
– Зачем же вас тогда прислали и почему не могут производить дознание местные офицеры? – Прокурор палаты закидывал меня вопросами, был, видимо, недоволен и удивлен присылкой постороннего офицера и не скрывал своего недоумения.
Как мог, я старался разъяснить, что это желание министра внутренних дел, ввиду той связи, которая должна установиться по делу с Европейской Россией, что дознание, вероятно, придется перенести в одну из столиц и т. д.
Прокурор палаты слушал. Он рассказал мне затем результаты обыска и прибавил, что дал уже указания, кого следует освободить после моего приезда. Ну, подумал я, и господа! Не разобрались еще в деле, ничего еще не знают, а уж беспокоятся об освобождениях. Это добра не предвещало. Мы расстались вежливо-холодно, видимо, не удовлетворенные друг другом.
Приехав в Томск, познакомившись с властями и приняв дело, я был поражен данным ему направлением. Виновные были привлечены по статьям за устройство типографии без надлежащего разрешения, как будто это касалось самой легальной типографии. О сообществе, преследовавшем изменение существующего политического строя, не было и в помине. Местный прокурор сразу же поспешил объявить мне, кто должен быть освобожден, и просил сделать это поскорее. Я ответил категорически, что пока не разберусь в деле, никто освобожден не будет, что дело важнее, чем думают, и что к нему надо отнестись весьма серьезно, а не с налету.
Получалась самая обычная в то время вещь. В политических делах прокуратура в большинстве случаев, прежде всего, схватывалась за освобождение и прежде всего принимала на себя роль адвоката арестованных, забывая, для чего она существует. Столицы, конечно, не в счет; там прокуратура была на своем месте, но бывали в этом отношении исключения и в провинции, где также находились иногда прокуроры даже еще более жестокие, чем жандармские офицеры.
В качестве наблюдающего за производством дознания мне дали молоденького, симпатичного, совершенно неопытного товарища прокурора, для которого выше прокурора палаты ничего на свете не существовало.
Побывав на месте обнаружения типографии, я убедился в недостаточной тщательности произведенного обыска. На одном из шкафов я нашел экземпляр «Колокола» Герцена [66] со свежими рукописными пометками, сделанными, как оказалось потом, Евгением Колосовым [67], и это подорвало у меня доверие к тому, что было сделано. Оплошность была большая. Наличность книги Колосова в типографии устанавливала формальную его причастность к ней. Он и был к ней причастен, он покупал в Омске для типографии бумагу и привозил ее. Не занесенная в протокол обыска его книга теряла значение улики.
Начал я допросы, прокуратура торопила с освобождениями, я протестовал… Я дал телеграмму в Петербург, прося разрешения министра внутренних дел, ввиду важности настоящего дела, производить одновременно с формальным дознанием о типографии также и расследование о социалистах-революционерах в порядке положения о государственной охране. Так как расследование велось без участия прокуратуры, то я получал большую свободу действий.
Вскоре я получил телеграфное распоряжение министра Сипягина [68] производить также и расследование… Я продолжал производить и дознание и расследование. Кого нельзя было сразу привлечь формально к дознанию, тот привлекался к расследованию и по мере возможности переводился на дознание; кого прокуратура настаивала освобождать по дознанию, тот содержался под стражей в порядке охраны по расследованию.
Уже два месяца бился я с дознанием, работая до поздних вечеров; были установлены связи по Петербургу, Москве, Ярославлю, Нижнему Новгороду и Чернигову; некоторые арестованные признали себя членами союза социалистов-революционеров, но полного откровенного показания получено еще не было. Барыков, главный обвиняемый (серьезный, симпатичный мужчина), говорил только то, чего нельзя было не говорить, и держался вообще осторожно. В Томске он являлся центральной фигурой. Его губили найденные при нем письма да подводила невеста, продолжавшая писать из Саратова, не зная об аресте жениха. По этой переписке она тоже была арестована.
Дамы держались проще, но была среди них одна пренесимпатичная барыня. Привезут ее, бывало, в сорокаградусный мороз на допрос, бранится, посиневшая, во всю… Предложишь ей погреться около распаленной печки, предложишь чаю – начинает успокаиваться. Снимет ботинки, греет ноги и становится поспокойнее, но показания дает скупо; нет, нет, да и фыркнет: вы, мол, жандармы… Другие женщины были очень симпатичны, простые, без революционной напускной учености и важности.
Говорили привлеченные в общем все понемногу. Социалисты-революционеры были в этом отношении лучше социал-демократов. На последних уж очень отражалось влияние Бунда и его техники. Здесь же все было больше по-русски, нараспашку, и разговаривать с эсерами было гораздо приятнее.
Из сопоставления различных показаний и данных обысков получалось нечто весьма существенное: наличность «союза» и его цели устанавливались формально, но полной картины все-таки не было. Товарищ прокурора удивлялся, чего я добиваюсь и почему я недоволен дознанием. Между тем, зная многое по агентурным и филерским данным, я, естественно, хотел получить те сведения, но уже как показания самих привлеченных. Только в переводе на протоколы допросов эти сведения приобретали формальные значения улик, и получить их было задачей моей работы. И, конечно, я старался получить эти откровенные показания.
Наконец, однажды вечером, в начале декабря, одна