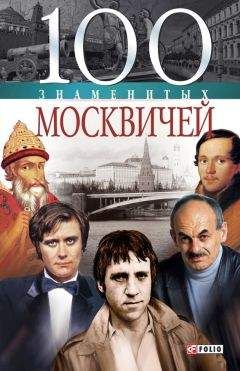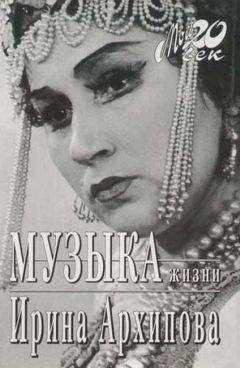Генуэзскую Норину я сыграла так, как мне подсказывала артистическая интуиция. Костюмы были самые скромные, и все же мне удалось создать столь блестящий и запоминающийся образ, что на генеральной репетиции Пини-Корси мне сказал:
— Браво, Тотина! Еще два-три спектакля — и Сторкьо будет кусать пальцы от зависти!
А надо сказать, что Сторкьо, хотя ее слава тогда уже клонилась к закату, все еще оставалась величайшей Нориной нашего национального театра.
Я испытала тогда истинное счастье в Генуе, хотя и получала всего двадцать пять лир в день, которых едва хватало, чтобы уплатить за комнату и обед. Но аплодисменты восторженных зрителей заставляли меня забывать мелкие житейские неурядицы.
После Генуи, в июне, агентство «Рикорди» пригласило меня петь в опере Пуччини «Ласточки». Оперу эту собирался ставить городской театр Болоньи, и зрители с огромным интересом ждали первого представления.
В «Ласточках» мне была поручена партия Лизетты. Моими партнерами были Линда Каннетти, Пертиле и Доминичи, а режиссером и концертмейстером — Этторе Паницца, талантливый музыкант, о котором у меня остались наилучшие воспоминания.
Спектакль прошел с большим успехом, превзошедшим все ожидания.
Темпераментные болонцы, всегда весьма требовательные в музыкальном отношении, как, впрочем, и все зрители областей Эмилия и Романья, встретили оперу «Ласточки» с искренним восторгом.
В «Джорнале ди Маттина» обо мне было написано: «Тоти Даль Монте замечательно исполнила партию Лизетты. Грациозность и наивное плутовство Даль Монте, ее гибкий, свежий голос, прекрасно звучащий на верхних нотах, завоевали певице симпатию зрителей».
А газета «Ресто дель Карлино» отмечала: «… Тоти Даль Монте предстала перед зрителем в роли „soubrette“,[2] полной живости и лукавства, своеобразный характер которой передан ею великолепно».
После этого выступления я завоевала и Пуччини, который требовал, чтобы я пела во всех последующих постановках оперы.
«Ласточки» были поставлены затем в миланском театре «Даль Верме» и туринском «Кьярелла».
В Милане, экономии ради, я поселилась со своей партнершей, болонской певицей Леа Риццоли, на центральной улице, в квартире одного преподавателя игры на скрипке. С тяжелым сердцем пришлось распрощаться с гостеприимным домом Сачердоти, который находился очень далеко от «Ла Скала».
Новый хозяин разрешил нам пользоваться кухней, так что Леа Риццоли почти каждый день готовила мне удивительно вкусные tagliatelle[3] с мясным рагу — любимое блюдо болонцев.
Увы, это принуждало нас выслушивать бесконечные скрипичные уроки, ибо профессор давал их прямо в большущей кухне, отгородившись, правда, занавеской.
Вот было мучение!
К тому же жена скрипача, женщина донельзя жадная, не скрывала своего раздражения, видя, как мы с Леа возимся у плиты. Частенько она призывала нас к порядку, когда мы, наделенные завидным оптимизмом, начинали шутить и неудержимо хохотать.
Очень скоро я решила «сняться с места», хотя Леа и соблазняла меня своими аппетитными тальятелле. Я устроилась в пансионе синьоры Лизы Поли на виа Паскуироло, 3, в маленькой комнатке, стоившей дешевле остальных, так как она примыкала к кухне.
В пансионе синьоры Поли жило довольно много артистов. Моя комната сообщалась с другой, которую занимала звезда варьете, симпатичная девушка, относившаяся ко мне с искренней добротой и даже с восхищением. Мой гардероб, в отличие от ее, все еще оставался очень и очень скромным. У меня было всего два платья, одна-единственная шляпка и неизменное пальтецо. Соседка, наоборот, не знала, куда девать все свои экстравагантные наряды. Я никак не могла понять, каким образом ей удается заработать столько денег. Частенько синьора Поли, которая тепло относилась ко мне, говорила:
— Пора и тебе, Тотина, за ум взяться. Артистка, поющая в «Ла Скала», должна купаться в золоте.
Я молчала, быть может потому, что была слишком наивна.
Но однажды звезда варьете воскликнула:
— Да перестаньте вы сравнивать свои платья с моими и чувствовать себя ниже из-за каких-то тряпок! Знали бы вы, как я вам завидую! Я готова иметь одно платье, но петь, как вы!
Спустя несколько недель моя соседка заболела и вскоре умерла. Смерть ее очень меня опечалила. Я была на похоронах. Какие же это были жалкие похороны! За гробом шло всего несколько человек.
У меня больно сжалось сердце, и я с горечью подумала о мимолетности человеческих страстей. Бедняжка, при жизни наивно верившая, что она любима, была мгновенно забыта своими недавними поклонниками и даже тем «любимым, единственным», который безраздельно царил в ее доверчивом, верном сердечке.
* * *
Наступили страшные дни Капоретто. Весь театральный мир Милана был потрясен.
Австро-немецкие войска с угрожающей быстротой наступают в Венето. У кого же появится желание идти в оперу?
Я кроме всего прочего очень беспокоилась о брате Пьеро, сражавшемся на фронте.
Его видели на позициях у Тальяменто, но вскоре и эти укрепления были прорваны, осталась последняя надежда на Пьяве.
Тут и у Монте Граппа свершилось чудо. С помощью всевышнего наши удивительные солдаты сумели остановить врага на «моей» Пьяве, и с тех пор ее называют «священной рекой родины».
В это самое время уже начала распространяться эпидемия испанки, страшной болезни, унесшей в Европе не меньше жертв, чем война.
В пансионе синьоры Поли ею переболели почти все. Жильцы и хозяйка были в панике. Я не избежала общей участи, но отделалась тремя-четырьмя днями постельного режима.
Однако беда никогда не приходит в одиночку, и вот однажды я получила известие, что отец тяжело заболел. Высокое давление и мучительные волнения за судьбу Пьеро вызвали у него кровоизлияние в мозг, а ведь ему было всего пятьдесят лет. Когда прошел острый кризис, он все же полностью не поправился и навсегда остался полупарализованным. Я была в отчаянии: у меня ни на миг не выходили из головы печальные мысли о почти полной беспомощности отца и тяжелом положении всей семьи.
Я решила во что бы то ни стало зарабатывать как можно больше. На следующий год в дни карнавала меня пригласили выступить в генуэзском театре «Политеама». К этому времени мужественное и стойкое сопротивление наших солдат несколько подняло дух у моих соотечественников.
Для меня и моей семьи приглашение петь в «Политеама» было якорем спасения. Я перечитываю контракт, заключенный со мной синьором Гаэтано Бульдрини от имени театрального агентства «Лусарди» в Милане. Вот его дословный текст: