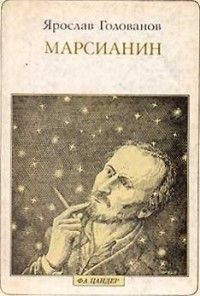Еще все говорили о спутниках, когда Джованни Скиапарелли, — кстати, он работал одно время у нас в России, в Пулкове, а потом стал директором Брестской обсерватории в Милане, — представил Королевской национальной обсерватории в Риме доклад о своих наблюдениях Марса и показал сделанные им рисунки: фотография уже существовала, но астрономы не очень ей доверяли. На этих рисунках марсианской поверхности были топкие прямые линии, сходящиеся в нескольких точках и причудливо пересекающиеся. Скиапарелли назвал их «каналы». По-итальянски — это вообще «русло», «проток», но на многих других языках — английском, русском, немецком — это «каналы», то есть заведомо искусственные сооружения. И опять-таки, как и в случае с семейной ссорой Холла, за всю историю науки ни одна ошибка в переводе не вызывала последствия столь бурные. Скиапарелли, которому тогда было сорок два года, считался серьезным ученым, давно признанным в кругу астрономов за свою теорию метеорных потоков; дешевой славы и газетной популярности (ТВ тогда еще не было, как ни трудно вам, да и мне, это представить) он не искал. В первый момент, когда открытые им образования начали толковать как сооружения, искусственные, кем-то содеянные, он растерялся. От комментариев отказался и твердил одно: я видел, что вся поверхность красной планеты покрыта сетью геометрически правильных тонких темных линий. Но газетам этого было мало. Все жаждали новых доказательств существования разумной жизни на Марсе. Люди поверили в каналы, потому что хотели поверить в них, потому что тогда еще не знали, что мы — единственные разумные существа в Солнечной системе, потому что Скиапарелли дал им пусть непадежную, но все-таки опору для фантастических построений. Он сделал то, что так редко удается сделать нам, ученым, — ведь мы или разочаровываем, или удивляем, а он укрепил людей в мечтах…
Сколько тогда писали, говорили и спорили о Марсе и его разумных обитателях! Кстати, в шуме этих споров прошло и детство Фридриха Цандера, определившее всю его судьбу, да и нашу вместе с ним: ведь мы живем на базе его имени… Да, шуму было много. Во Франции в 1900 году учредили премию в сто тысяч золотых франков, которую должны были выплатить человеку, первым установившему связь с другой планетой, помимо Марса. С Марсом вопрос считался решенным, и глупо было платить за это такие деньги.
Правда, были астрономы, которые робко признавались, что им не удается увидеть каналы, которые видел Скиапарелли, но в целом научный мир их признал. Места их пересечения уже официально нарекли «оазисами»…
Но время шло, газетный бум начал стихать, фонтаны фантастики уже не били, а булькали. И тут появился Персивал Ловелл.
Богатый представитель американской элиты (брат — президент Гарвардского университета) занимался бизнесом, путешествовал, жил в Японии, и вот в один прекрасный день «капали» Скиапарелли врываются в эту жизнь и всю ее ломают. Одинокие качаются у пирсов его яхты, пустыми стоят некогда веселые виллы, тысячи долларов летят теперь на драгоценную оптику и зеркала. В 1893–1894 годах в Флагстаффе, где сухой прозрачный воздух Аризоны ласкал его телескопы, Ловелл построил отличную обсерваторию и занялся наблюдениями Марса.
Нет, это было не увлечение и не прихоть богатея-бездельника, страсть человеческая, прекрасное нетерпение, великая жажда знания и неистребимая вера в мечту — вот что владело тогда романтиком американцем. Начиналась новая глава марсианской хроники, новый поединок фантазии и расчета, в котором большинство «болеют» за фантазию, но чаще всего побеждает расчет. Но об этом — в следующий раз. Успехов вам, друзья!
Марс. База Цандер. 19 октября 2032 года.
Ноябрь 1907 года. Рига. У Фриделя черная шинель с желтым кантом, фуражка с лакированным козырьком. Но на бравого гвардейца он не похож, скорее на унылого железнодорожника, который ждет поезда, а поезд опаздывает. Впрочем, поезд его не опаздывал — просто двигался медленнее, чем ему хотелось бы.
Учился он хорошо и, безусловно, выделялся среди однокашников знаниями, особенно по математике. Здесь природное дарование подкреплялось и прилежанием в реальном училище, и почти полным курсом, который Цандер прослушал в Данциге. Неизвестно и теперь уже вряд ли будет известно, заметил ли способного ученика доктор Боль, читавший в институте курс математики. Вряд ли заметил, поскольку он вообще ничего не замечал.
Известно, как много всевозможных анекдотов — былей и небылиц — связано с именем выдающегося русского физико-химика, почетного члена Академии наук СССР Ивана Алексеевича Каблукова в связи с его феноменальной рассеянностью и поразительной способностью совершенно отключаться от окружающей его действительности. Не в меньшей степени этими качествами был наделен и рижский профессор Пирс Георгиевич Боль. Он не помнил в лицо ни одного своего студента. Среди лекции вдруг надолго мог задуматься, не обращая никакого внимания на слушателей. Однажды, заглянув в список, вызвал студента к доске. Из разных концов аудитории раздались нестройные голоса:
— Его нет!
— Отсутствует!
— Он болен!
— Зачем кричать! — задумчиво сказал Боль. — Пусть сам скажет…
Злые языки утверждали, что, возвращаясь домой, он всякий раз спрашивал свою экономку, запомнить лицо которой он был не в состоянии:
— Простите, господин Боль здесь живет? — Он боялся перепутать квартиры.
Боль был одинок, чудаковат, но добр, и хотя молодости подчас и свойственна некоторая жестокость к слабым, студенты любили его. И уважали: его труды печатались в Известиях Французской академии! Он был действительно очень одаренным математиком. Изучив так называемые квазипериодические функции, он уже в своей магистерской диссертации заложил основы теории почти-периодических функций — сказал пусть небольшое, но свое слово в науке.
Фриделю нравилась та манера изложения предмета, которая была свойственна Пирсу Георгиевичу. Когда он приводил какое-либо доказательство, он как бы сам в нем сомневался. И эту свою якобы нерешительность он преодолевал лишь за счет интереса аудитории к тому, что он делает. Трудно сказать, использовал ли он некий педагогический прием, или это входило в самую природу его характера, но слушать его было интересно. Интересно, потому что ты наблюдал движение человеческой мысли, а не движение мела по доске. Иногда он говорил совершенно неожиданно: «Но предположим в виде опыта, что все это не так, и попробуем доказать, что это все-таки так…» Через много лет, когда Цандера уже давно не было в живых, старички, бывшие когда-то его товарищами в политехникуме, рассказывали, что у Фриделя даже выработались приемы и манеры, в рассуждениях и математических выводах схожие со стилем Боля.