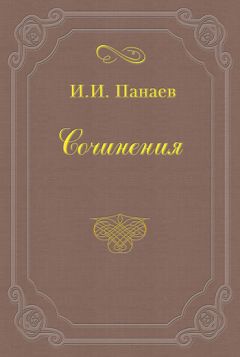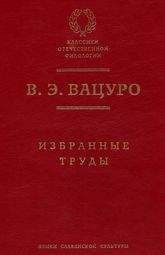Я, однако, жаловаться не решился; но граф Соллогуб при встрече с председателем ценсурного комитета князем Дундуковым-Корсаковым рассказал ему о выходке «Пчелы» против меня.
Князь Дундуков спросил в комитете, кто из ценсоров пропускал тот номер «Пчелы», где она была напечатана. Оказалось, что это был родной брат его, П. А. Корсаков. Корсаков отговаривался перед братом тем, что не понял намека. Князь Дундуков сделал ему выговор и приказал строже следить за «Пчелою».
Булгарин узнал об этом и написал к князю Дундукову письмо, в котором объяснял ему, что статью обо мне писал не он; что он и не подозревал об моем существовании; что мало ли что говорится иногда о людях и позначительнее меня; что неужели обо мне нельзя ничего сказать, потому что я ношу одну фамилию с каким-нибудь директором канцелярии? что он, Булгарин, человек благонамеренный, известный с самой хорошей стороны правительству; что он в детстве был, так сказать, повит голубыми лентами, что его вельможи ласкали, а Свистунов – всегда целовал; что он режет всем правду-матку в глаза; что поэтому его ненавидят разные литераторы, считающие себя неизвестно почему аристократами; что Соллогуб величается графом, хотя в Польше графов никогда не было; что князь Вяземский работал по найму у купца третьей гильдии Полевого; что князь Одоевский готов за деньги написать статью против кого угодно… и проч., и проч. В заключение он просил, как притесняемый, защиты у князя Дундукова и называл его брата Корсакова благородным ценсором и дворянином.
Письмо это хранилось в копии у г. Краевского, пылавшего тогда благородным негодованием против всяких нелитературных выходок.
Несколько месяцев спустя после этого я заехал к В. И. Панаеву.
– Что у тебя такое было с Булгариным? – спросил он меня.
Я давно забыл о выходке «Пчелы».
– Ничего, – отвечал я, – я с Булгариным не имею никаких связей и сношений; а что?
– Да я дней пять тому назад встретил его в Милютиных лавках. Он пристал ко мне. «Ваше превосходительство, говорит, вы на меня сердитесь… Я не виноват…» – «За что мне на вас сердиться?» – «В „Пчеле“, говорит, оскорбили вашего племянника; но я, клянусь вам богом, не знал об этом. Я вашего племянника люблю, ваше превосходительство, несмотря на то, что он якшается с моими врагами. Я поручил написать об нем одному сотруднику, думая, что он находится с ним в хороших отношениях, а он с ним в контре – он и ввел меня в эту неприятность. Простите меня, бога ради, не виноват, не виноват, ваше превосходительство!» И все тыкался мне в плечо и целовал, объясняясь в любви ко мне и к тебе. Я ничего хорошенько не понял.
Я рассказал Панаеву, в чем дело, и передал ему содержание письма Булгарина к Дундукову. Панаев покачал головою.
– Ах, неужели, – возразил он с свойственною ему мягкостию, – Булгарин такой нехороший человек! Я этого не думал… Мне как-то хочется думать об людях все лучше.
Эпилог к этой забавной истории разыгрался лет пять спустя.
Я жил на даче в Парголове, где жил тогда и Межевич, перешедший от г. Краевского к Булгарину и потом редижировавший «Полицейскими ведомостями».
С Межевичем я познакомился, когда он приехал из Москвы и сделался сотрудником «Отечественных записок» (об этом я буду говорить подробно). Межевич очень конфузился, перебежав в «Пчелу», и долго скрывал это от нас. В это время я написал статейку «Петербургский фельетонист», в которой мой фельетонист также тайно перебегает из одного журнала в другой. Межевич принял эту статейку на свой счет.
Я встретился с Межевичем по дороге в сад, и мы пошли вместе. Вечер был теплый и тихий; я разговорился с ним о чем-то. Тишина природы и моя любезность подействовали на Межевича.
Он вдруг, растроганный, остановился и произнес:
– Знаете ли, что я перед вами очень виноват?
– Каким образом? – спросил я.
– Ведь это я написал в «Пчеле» известный вам гадкий намек на вас. Я был тогда глубоко оскорблен вашим «Петербургским фельетонистом», простите меня.
– И, полноте, любезный Василий Степанович, – я уж давно и забыл об этом, – отвечал я.
Межевич с чувством и даже со слезящимися глазами пожал мою руку…
Но обратимся к середам Кукольника.
Вся ватага гостей его расходилась обыкновенно около часа, – иногда Яненко или кто – нибудь из мелких литераторов, состоявших по особым поручениям при поэте, разными хитростями выживали гостей ранее. По очищении комнат накрывался ужин человек на двадцать самых интимных и продолжался до утра. За этим ужином происходили дружеские и всяческие излияния, выступала на сцену святыня искусства и раздавались вдохновенные и пророческие речи хозяина дома.
На одной из серед Кукольник часов в одиннадцать подошел ко мне, значительно мигнул и шепнул с улыбкою:
– Не уезжай. Когда разбредется вся эта шушера, останутся избранные. Вечера мои собственно начинаются тогда, когда они кончаются для них…
Кукольник указал головою на толпу гостей.
– До сих пор, – прибавил он, – была только увертюра, – самая опера начнется потом.
Надо заметить, что это происходило после «Роксоланы» и «Скопина-Шуйского», которые имели огромный успех на сцене. Усердие наше к крикам и хлопанью не уставало. К нам присоединилось еще множество офицеров различных полков – новых друзей поэта, с еще более громким голосом, чем у нас.
Хотя я продолжал быть убежден в огромном таланте Кукольника, но меня уже смущали его связи с Булгариным, Плюшаром и им подобными личностями, которым я не мог сочувствовать; его искание популярности без всякого разбора, ухаживанье за людьми чиновными и значительными и еще притом прославление их между приятелями, пиры без конца, повторение тех же громких фраз и проч. – все это много способствовало моему разочарованию. Сомнение начало закрадываться в меня относительно призвания поэта; я уже иногда посматривал на него как на простого смертного и даже осмелился замечать иногда его комические стороны.
В таком положении я был к нему, когда он сделал мне честь, которой удостоивались немногие – удержал меня на ужин.
Мне, однако, это было еще очень приятно.
За ужином Кукольника в этот раз было человек пятнадцать: несколько офицеров Преображенского полка, М. И. Глинка, Яненко, Струговщиков, переводивший Гете и издававший тогда «Художественную газету», и Каменский, интересный молодой человек, явившийся с Кавказа с повестями a la Марлинский и с солдатским Георгием в петлице. Кавказский герой одержал две победы в Петербурге: одну над г. Краевским, издававшим «Литературные прибавления», который, пораженный его талантом, заплатил ему 500 рублей (ассигнациями) за его первую повесть; другую над дочерью Ф. П. Толстого. Остальных присутствовавших за этим ужином я не помню. Ужин отличался не столько съестною, сколько питейною частию. В столовой на одной стене висел портрет Кукольника-поэта, на другой его брата Платона – оба работы Брюллова, в великолепных рамах. Вино лилось. За шампанским Кукольник встал и, обращаясь в особенности к офицерам, подняв бокал и протягивая с ним руку к портрету брата, произнес торжественно: